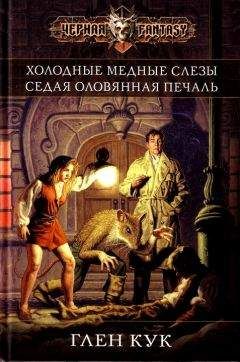Жандармы подхватили меня и почти перенесли на палубу. Затем мы спустились в каюту, окна которой были тщательно закрыты занавесками. Пароход двинулся и шел… шел…
Часа через два-три пришел офицер. Спрашивает, не хочу ли я есть.
— Нет!
Опять приходит. Спрашивает, не хочу ли чая.
Отвечаю сурово: «Нет!»
Пусть не подходит. Пусть не спрашивает. Я хочу молчать. Я должна молчать. Я не могу слышать свой собственный голос… За 20 месяцев полного одиночества, когда приходилось говорить лишь раз в две недели, когда на 20 минут приходили мать и сестра, этот несчастный голос так изменился: стал так тонок, так жалобен и звонок… Он звучал предательски — он выдавал меня.
А пароход все шел куда-то, шел и уносил меня в неизвестное.
Сначала я думала: не на уединенную ли пристань какую? А с нее, быть может, на железную дорогу или в повозку…
Или в Кексгольм? Я слышала что-то об этой крепости в Финляндии.
Не в Шлиссельбург ли? В Петропавловской крепости я прочла в книге, что там для народовольцев выстроена тюрьма на 40 человек, и на суде один из товарищей прокричал: «Всех нас — в Шлиссельбург!»
Часов через пять пароход куда-то пристал.
Жандармы зашевелились и сказали:
— Наверх!
Там быстро и крепко, словно железными тисками, они схватили меня за руки, снесли на землю и повели.
…Впереди стояли белые стены и белые башни из известняка. Вверху на высоком шпице блестел золотой ключ.
Сомнения не было — то был Шлиссельбург[4]. И вознесенный к небу ключ, словно эмблема, говорил, что выхода не будет.
Двуглавый орел распустил крылья, осеняя вход в крепость, а выветрившаяся надпись гласила: «Государева»… И было что-то мстительное, личное в этом слове, что больно кольнуло.
В сопровождении целой толпы каких-то людей, о которых я гораздо позднее сообразила, что это были офицеры, жандармы и солдаты, мы прошли в ворота. И тут я увидела нечто совсем неожиданное.
То была какая-то идиллия. Дачное место? Земледельческая колония? Что-то в этом роде — тихое, простое…
Налево — длинное белое двухэтажное здание, которое могло быть институтом, но было казармой… Направо — несколько отдельных домов, таких белых, славных, с садиками около каждого, а в промежутке — обширный луг с кустами и купами деревьев. Листва теперь уже опала, но как, должно быть, хорошо тут летом, когда кругом все зеленеет! А в конце — белая церковь с золотым крестом. И говорит она о чем-то мирном, тихом и напоминает родную деревню.
Все дальше двигается толпа, и вот открылось здание из красного кирпича: два этажа, подслеповатые окна и две высокие трубы на крыше — ни дать ни взять какая-нибудь фабрика.
Перед зданием красная кирпичная стена и железные ворота, окрашенные в красное и теперь раскрытые настежь.
Толпа вместе со мной втискивается в ворота и ползет на крыльцо, которое выглядит почти приветливо.
Мы в коридоре, а потом в довольно просторной комнате со сводом. Это дежурная. В одном углу ванна.
— Руки! — говорит смотритель.
Я протягиваю их, и, повозившись, он отпирает замки, и цепь уносят.
Потом все исчезают. Остаюсь я, молодой человек в мундире военного врача и неизвестно откуда взявшаяся пожилая женщина с физиономией и манерами экономки из «хорошего дома».
И что же? Доктор садится за стол ко мне спиной, а женщина начинает меня раздевать.
Несколько минут — и я стою голая.
Было ли мне больно? Нет…
Было ли мне стыдно? Нет…
Мне было все равно! Душа куда-то улетела, ушла или сжалась в совсем маленький комочек. Осталось одно тело, не знающее ни стыда, ни нравственной боли.
Доктор встал, обошел вокруг меня и что-то записал. Затем вышел.
Меня привезли сюда навсегда… Я не должна была никогда выйти отсюда, но все же, все же надо было меня оголить, надо было записать в книгу, есть ли особые приметы на моем теле или нет!..
За четыре года перед тем с моей сестрой Евгенией после суда проделали то же самое.
Возмущенная, я рассказала об этом министру внутренних дел графу Толстому, когда после моего ареста он пожелал меня видеть.
— Это злоупотребление, — сказал он. — Этого не должно быть!..
И вот, несмотря на это, быть может, именно поэтому, потому что я возмущалась, со мной проделали то же самое!
И я не протестовала, не кричала… Не царапалась и не кусалась…
Когда мы в детстве читали о Древнем Риме, о том, как на потеху толпы цезари выводили молодых женщин-христианок на арену цирка и потом выпускали льва, чему мы учились, о чем читали?
Эти женщины не кричали, не сопротивлялись!.. Но и у меня был свой бог, своя религия — религия свободы, равенства и братства. И во славу этого учения я должна была перенести все.
После ванны, которую надо было принять, вероятно, для того, чтобы узнать, нет ли чего спрятанного, женщина исчезла, а меня повели наверх.
Два этажа тюремного здания не разделены ничем, кроме сетки и узкого бордюра, который в виде балкона проходит вдоль ряда камер верхнего этажа. Благодаря такому устройству вся внутренность тюрьмы, все сорок железных дверей камер видны сразу.
Веревочная сетка в середине пересекается узким мостиком, который упирается в камеру № 26. «Мост вздохов», — подумала я, когда меня повели по нему. Я вспомнила дворец венецианских дожей, где мост с этим названием был единственной дорогой, по которой венецианские крамольники шли из казематов на плаху.
По шлиссельбургскому «мосту вздохов» я проходила ежедневно много-много лет: меня заперли в № 26. Дверь захлопнулась, и в изнеможении я опустилась на койку.
Новая жизнь началась. Жизнь среди мертвенной тишины, той тишины, к которой вечно прислушиваешься и которую слышишь; тишины, которая мало-помалу завладевает тобой, обволакивает тебя, проникает во все поры твоего тела, в твой ум, в твою душу. Какая она жуткая в своем безмолвии, какая она страшная в своем беззвучии и в своих нечаянных перерывах! Постепенно среди нее к тебе прокрадывается ощущение близости какой-то тайны; все становится необычайным, загадочным, как в лунную ночь в одиночестве, в тени безмолвного леса. Все таинственно, все непонятно. Среди этой тишины реальное становится смутным и нереальным, а воображаемое кажется реальным. Все перепутывается, все смешивается. День, длинный, серый, утомительный в своей праздности, похож на сон без сновидений… А ночью видишь сны такие яркие, такие жгучие, что надо убеждать себя, что это — одна греза… И так живешь, что сон кажется жизнью, а жизнь — сновидением.
А звуки! Эти проклятые звуки, которые вдруг нежданно-негаданно ворвутся, напугают и исчезнут… Где-то раздается шипение, точно большая змея лезет из-под пола, чтоб обвить тебя холодными, скользкими кольцами…