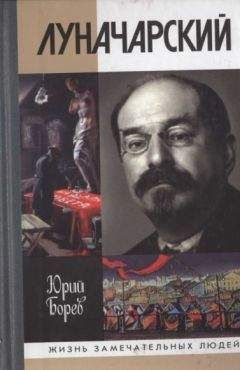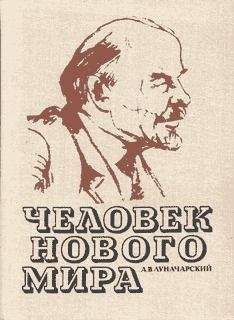— Вы Луначарский?
Спросонья плохо понимая, что происходит, человек в пижаме утвердительно кивнул и, близоруко щурясь, неприветливо оглядел гостя и про себя прикинул: года тридцать три — возраст Христа, как говорится…
— Вы не от Ленина ли? — спросил он, не предлагая раннему посетителю войти.
Незнакомец не придал никакого значения недружелюбному приему и спокойно удостоверил:
— Я и есть Ленин.
Луначарский совершенно проснулся, смутился и пригласил:
— Пожалуйста, входите.
Хозяин почувствовал себя неловко из-за резкого перехода от нерасположения к радостной приветливости, которую гость, не ровен час, может принять за подобострастие. К тому же он застеснялся своей пижамы и, чтобы скрыть смущение, грубовато спросил:
— Что это вас так рано принесло?
Ленин, неспешно раздеваясь, рассудительно ответил:
— Если вы полагаете, что я приехал за вами слишком рано, то я, напротив, считаю, что приехал поздно, потому что вы здесь зря теряете время. У нас из-за вашего промедления застопорилось дело с выходом первого номера газеты «Вперед». Если же вы имеете в виду ранний час утра, то я, прошу прощения, не рассчитал с поездом и не думал, что приеду на рассвете.
Луначарский проводил гостя в комнату, усадил за стол и, извинившись, удалился в спальню, откуда послышались сонный ворчливый женский голос и успокаивающий, что-то объясняющий фальцет Луначарского. Потом он вышел уже в костюме, в пенсне, но без галстука и стал готовить завтрак. Вскоре на столе появились бутерброды и чай. Новые знакомые с аппетитом ели, оживленно обмениваясь репликами.
Ленин посетовал:
— Вот уж три с лишним месяца я никак не могу вас поймать. Я уже «Зверя» за вами посылал в Париж.
Увидев недоумение в глазах Луначарского, Ленин разъяснил:
— «Зверь» — это кличка товарища Эссена. Он в начале августа ездил вас разыскивать.
Луначарский невольно взглянул на календарь, висевший на стене, не поленился встать и сорвал вчерашний листок. Открылось нынешнее число: 19 ноября 1904 года. Снова садясь за стол, он объяснил:
— Я в начале августа был еще в Киеве, и меня по поводу социал-демократической сходки за Днепром пыталась «с поличным» поймать полиция.
Ленин провел рукой по высокому крутому лбу, улыбнулся. Ладонь его пошла выше до самой макушки, а потом медленно опустилась к переносице.
— А мы с Надеждой Константиновной нарекли вас «Миноносец Легкомысленный». От вас так долго не было ни слуху ни духу.
— Меня отыскала в Киеве ваша сестра Мария Ильинична и от вашего имени попросила скорее уехать за границу.
— Вас трудно поймать. Вы как ртуть. Я и Богданова просил употребить все усилия, чтобы вы скорее двигались в сторону Женевы. Дело неотложное. Надо налаживать центральный печатный орган. Старый оказался в руках меньшевиков. Нужны журналисты, хорошо владеющие пером. Без газеты нет партии, а без партии нет революции.
Луначарский снял пенсне, протер его платком, вновь надел и стал объяснять:
— Я долгое время провел в ссылке. Глушь. Сначала Вологда, потом Тотьма, поэтому Париж…
Уловив искорки иронии в глазах Ленина, Луначарский поспешил оправдаться:
— Нет, Париж для меня не отдохновение, не развлечение и не компенсация за тяготы ссылки. Я решил здесь познакомиться со всей партийной литературой, разобраться в сути расхождений между большевиками и меньшевиками. Честно говоря, я не вполне уверен в правильности линии большевиков и считаю себя примиренцем. Я читаю литературу о расколе. Без понимания этого вопроса я для центрального органа большевиков не гожусь.
Ленин молча согласился и добавил:
— Для постижения этого вопроса приглашаю вас на мой реферат. Читаю его сегодня вечером на собрании русских политических эмигрантов. Тема — внутрипартийное положение, организационный и тактический оппортунизм меньшевиков.
— С большим интересом послушаю, Владимир Ильич!
Ленин попросил приготовить кофе, но в доме его не оказалось. Луначарский предложил недалекую прогулку и посещение мастерской скульптора Аронсона. Анатолий Васильевич убедил, что такой ранний визит не обеспокоит хозяина мастерской, а чашка кофе у гостеприимного хозяина совершенно точно найдется. Ленин согласился, и они совершили приятную утреннюю прогулку по просыпающемуся Парижу. Вскоре они были в мастерской Аронсона. Хозяин быстро приготовил кофе, угостил утренних посетителей и, сидя с ними за столом, острым профессиональным глазом стал рассматривать человека, приведенного Луначарским. Аронсон посчитал, что у гостя сократовский лоб и удивительно красивая голова. Скульптор сказал:
— Господин Ленин, я хотел бы изваять ваш бюст или, быть может, даже скульптуру в полный рост.
Ленин смущенно промолчал. Луначарский же, не без некоторого умысла организовавший посещение Аронсона, порадовался, что его замысел удался, и поддержал эту идею.
Вечером того же дня Луначарский впервые услышал Ленина как оратора.
В перебранках с меньшевиками, в их острой критике Лениным Луначарский чувствовал не только споры вокруг тактических вопросов и принципов строения партии, но и борьбу амбиций и схватку за личное лидерство. В конце концов, и с той и с другой стороны в этой перебранке участвовали молодые люди. Знаменательно, что большинству декабристов, например Бестужеву, Пестелю, Каховскому, как и деятелю французской революции Робеспьеру, было примерно столько же, сколько многим большевикам и меньшевикам в первую русскую революцию — около 33 лет. Видимо, возраст Христа, проповедника всеобщей любви и всепрощения, самый революционный возраст. Заметим, что Ленину в первую русскую революцию было 34–35 лет и он считался «стариком» по сравнению со многими своими соратниками и противниками, Луначарскому же было 30 лет. Он ощущал нарастание взаимной неприязни Ленина и его окружения, с одной стороны, и меньшевиков и их лидеров — с другой. Луначарскому было не все понятно в этих идейных перебранках, а кое-что даже раздражало, вызывало недоумение и даже протест.
Меньшевики ратовали за создание, говоря современным языком, не коммунистической, а социал-демократической партии, с демократическими ориентациями в ее внутрипартийной жизни и программных действиях, ориентированных на долгий преобразовательно-эволюционный путь достижения цели. Этот подход мог удержать партию от наполеоновских и тоталитаристских перспектив, но мог привести и к забалтыванию революционных проблем. Такой подход практически откладывал революцию надолго, если не навсегда. Большевики были исторически нетерпеливы, они хотели изменения общества сегодня, в крайнем случае — завтра. Их позиция включала в себя революционную активность и беспощадное революционное насилие. Последнее могло принести скорые коренные преобразования общества, но было чревато перманентным неизбывным насилием, возможностями узурпации власти и несло в себе угрозу внутрипартийной диктатуры. Достоевский в «Преступлении и наказании» предупреждал, что насилие, даже имеющее справедливые мотивы, раз начавшись, может почти спонтанно продолжиться и его трудно будет остановить. Мы сегодня, зная опыт 1917 года и последующей Гражданской войны, зная опыт 1937 года и ГУЛАГа, не можем отрешиться от настороженного отношения к революционной «большевистской» формуле «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…». Мы, вооруженные опытом истории, хорошо знаем, что было «затем». Молодые люди начала XX века еще не обладали историческим опытом, который ориентировал бы их на осторожное отношение к насилию в процессе развития общества. Однако социальная интуиция подсказывала некоторым из них — и в их числе был Луначарский — необходимость некоторой осторожности в этом вопросе.