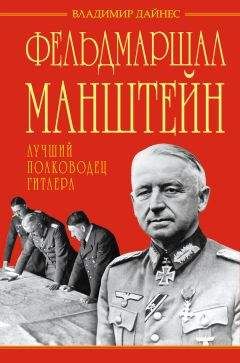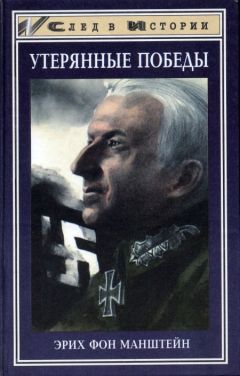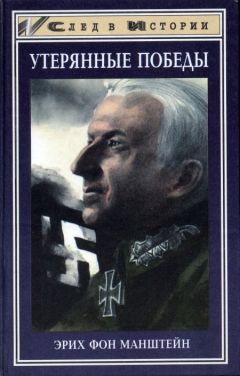Экономистом, несмотря на его последующие заверения, ему все-таки тоже пришлось стать: он как-никак был гарантом того, что все награбленное у евреев добро благополучно попадет в фатерлянд. Но и тут он не был педантом: когда начальнику его разведки Эйсману приглянулись старинные серебряные часы, уворованные славным вермахтом у какого-то еврея, он милостиво разрешил ему их прикарманить.
Однако все эти мелкие и ненужные подробности отступали и терялись во мраке прошедшего времени, как только Эрих фон Манштейн вспоминал свой крымский триумф, когда все советское командование севастопольской обороной под «руководством» сухопутного полководца генерала Петрова и морского волка адмирала Октябрьского, как трусливые крысы, удрало из окруженного города, оставив на произвол судьбы, на смерть и плен почти сто тысяч своих бойцов, и по немецкому радио зазвучали звуки фанфар, предшествовавшие сообщению о падении Севастополя. А затем была поздравительная телеграмма фюрера, содержавшая также известие о присвоении генерал-полковнику фон Манштейну звания генерал-фельдмаршала. Где только была эта любимая ныне русским народом гитлеровская шлюшка Ленни Рифеншталь: ведь только ей было бы под силу запечатлеть такой торжественный момент!
Потом благородный Эйсман помчался в Симферополь, поднял там среди ночи какого-то татарина-ювелира и заставил его выплавить серебро из еврейских часов и отлить из него два маршальских жезла на погоны своему шефу. Эрих был тронут до слез. Было множество и других поздравлений и приятных моментов. Лишь одно огорчало: крымские партизаны все еще не угомонились, и никакой управы на них не было: «Они не уважали никаких норм международного права», — напишет он потом в своих мемуарах. Не правда ли, хороша эта изысканная фраза в свете всего вышесказанного о «благородном» поведении ее автора?
После Крымской кампании был у Эриха фон Манштейна непродолжительный отдых в Румынии, где он был встречен как герой, и снова бои, но уже не такие яркие и удачные, и гибель старшего сына при авианалете под Великим Новгородом. Девятнадцатилетний лейтенант Геро Эрих Сильвестр фон Манштейн был, конечно, «благородным человеком и христианином», а главной чертой его характера была неиссякаемая «любовь к людям». Одно остается непонятным: почему, находясь на таких моральных высотах, он, как писал Манштейн-старший, «отдал жизнь за Германию» и нашел свою могилу на берегу озера Ильмень, куда в свое время так рвались псы-рыцари, тоже, очевидно, во имя Германии. Эрих фон Манштейн натуру имел романтическую, и брошенная его любимым фюрером свора взбесившихся гундешвайнов, то есть «собакосвиней» (здесь применяется истинная немецкая терминология того времени), к которой принадлежал и он сам, представлялась ему отрядом античных героев, и одному из разделов своих мемуаров он предпослал их гордые слова: «Путник, придешь в Спарту, скажи там, что видел нас лежащими здесь, как велел закон», опоганив тем самым их светлую память.
Эрихом фон Манштейном овладела грусть. Он вспомнил меланхоличные глаза лани, бродившей по разоренному его одиннадцатой армией заповеднику «Аскания Нова». И в этот момент неслышной походкой в зал вошел Адольф Гитлер. Манштейн вытянулся, щелкнул каблуками, выкинул вперед руку и закричал: «Хайль!» После этого у них началась довольно спокойная беседа, к концу которой генерал-фельдмаршал вдруг ощутил, что воля его подавлена, и он уже, несмотря ни на что, верит в окончательную победу тысячелетнего рейха. Собрав последние остатки своих сомнений, он, преданно глядя в глаза Верховному главнокомандующему, выкрикнул: «Но, мой фюрер, мы сражаемся с гидрой. Мы отрубаем у нее одну голову, а на ее месте вырастают две!». Тут Манштейн умолк, и ему показалось, что его фюрер пошевелил ноздрей: не пахнет ли тут Левински?
Следует отметить, что, говоря о гидре, Манштейн поскромничал: его родной вермахт не без помощи трусливых и бездарных «красных командиров» типа дебила Тимошенко срубал не одну, а миллионы голов, но на их месте почти в буквальном смысле, потому что время все-таки шло, вырастали новые миллионы, и о житейской и военной судьбе одной из таких «голов» будет рассказано в последующих разделах этой почти документальной повести.
Глава первая
Начало и несколько исходов
Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Б. Слуцкий
Св. апостол Филипп свое Евангелие, отвергнутое «отцами христианской церкви», испугавшимися его опасной мудрости, начинает следующими словами:
«Еврей создает еврея, и называют его так: прозелит».
В то время, когда и там, где появилось на свет главное действующее лицо этого повествования, евреи еще продолжали создавать евреев, но называли их так: «советские люди». Одним из этих «советских людей» и был мальчик, родившийся у Аврум-Арона и Фани Ферман в небольшом поселке Добровеличковка, расположенном на юго-западе Украины.
По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему весьма непростое имя — Хаим-Шая, в память о недавно умерших двух его дедушках, заранее приготовленное его матерью для своего первенца. Несмотря на эту ритуальную операцию и мудреное имя-отчество — Хаим-Шая Аврум-Аронович, — торжественно вписанное в его метрическое свидетельство добросовестным канцеляристом из бюро записи актов гражданского состояния, малыш еще лет семь-восемь оставался простым «советским человеком» — до тех пор, пока мудрые вожди «страны победившего пролетариата» не заложили очередную мину в основание пролетарской империи, учредив паспорта со знаменитой «пятой графой». После этого люди, населявшие страну, по-прежнему оставались «простыми советскими», но некоторые все же стали ощущать себя «простее» прочих. Потребовалось еще немало лет и много правящих идиотов, каждый из которых вносил свой «вклад» в историю советской державы, но, в конце концов, и эта мина сработала, и бывшие «советские люди» разделились в соответствии с «пятой графой», а те, кому в соответствии с этим разделением ничего не причиталось, отправились искать свое счастье в иных краях.
Но в те времена, когда маленький Хаим-Шая учился ходить на своей малой родине, до этого финала было еще далеко, и у него были другие заботы: его двойное имя для малыша было весьма неудобным в обиходе. Сам себя он называл Хима, но такого имени вроде бы не было, и по созвучию его стали именовать Фимой. Вскоре он так привык, что он — Фима, что родителям следовало бы его переименовать. Тем более что тогда это было разрешено. Требовалось только дать объявление о переименовании в местную газету. Одно из таких объявлений — «Иван Говно меняет имя на Эдуард» — даже стало всесоюзным анекдотом. Но Фимины родители не озаботились этим: мальчик продолжал считать себя Фимой, а безобидный на вид документ, по которому он был Хаимом-Шаей, спокойно лежал в семейных бумагах, ожидая своего часа, как знаменитое ружье в пьесе Антона Павловича Чехова.