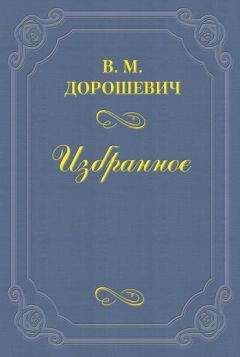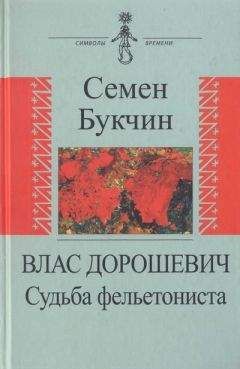Но в данном-то случае!
«Клянусь святым Патриком!»
Я был конфидентом всех его увлечений, разочарований, любовных тайн.
Г. Малов имел такое же основание убить его, – с каким можно убить каждого актёра.
– А?! Моя жена заслушивается ваших монологов?!
Выхватил револьвер:
– Вы – бесчестный соблазнитель! Вы смущаете чужих жён.
Бац!
И наповал.
Нас с Рощиным соединяла двадцатилетняя и тесная дружба.
Мы были товарищами юности.
Смешно сказать, – вместе начинали на сцене.
В любительском спектакле, в дачном театре, в подмосковном селе Богородском.
В «Каширской старине».
Он, корнет Сумского гусарского полка Пашенный, играл Саввушку. Я, великовозрастный гимназист, Абрама.
Василия играл какой-то Тольский-Тарелкин. Марьицу – красавица Волгина.
В последнем акте, «под занавес», злосчастный Тарелкин так неудачно и скабрёзно упал на труп Марьины, что, когда опустили занавес, к аплодисментам зрительного зала присоединился и звонкий аплодисмент на сцене.
Марьица развернулась и дала своей пухлой ручкой пощёчину злосчастному Василию Коркину.
Я, как сейчас, вижу благовоспитанного переодетого гусара, шаркающего ножкой и конфузливо улыбающегося на похвалы со всех сторон.
Судьба толкнула корнета и гимназиста по разным дорогам.
Но наши дороги были по одному направлению, близко друг к другу, – и мы шли, всё время весело перекликаясь.
Я был свидетелем его роста.
Видел его у Корша, на гастролях в Петербурге, по каким-каким городам не встречался с ним в провинции!
Как многим большим актёрам, – как Шумскому, как Бурлаку, – природа решительно отказала ему в необходимых для актёра данных.
Он должен был играть любовников, и был некрасив.
У него был хриплый голос.
И, – несчастие всей его жизни, – дурные зубы.
Ведь публика «смотрит актёру в рот».
Зубы – это первое, что она видит.
В жизни у неё у самой прескверные зубы. Но на сцене она никак не может себе представить, как это человек со скверными зубами смеет говорить о любви!
Только в конце жизни Рощин:
– Обзавёлся хорошими зубами.
Решившись для этого на героическую операцию.
Вырвал все старые зубы!
Всё, что ему дала природа, – это юношеский стан.
И с такими плохими данными это был актёр, который увлекал!
Он был очень скромен, и от Корша уходил с ужасом:
– Возьмут ли меня куда-нибудь?
Ему говорили кругом:
– Да, ведь, нельзя же всю жизнь в одном театре! Под лежачий камень и вода не течёт! Новые города! Новый репертуар! Новые роли! Ты развернёшься!
Но он был полон страха:
– Нужен ли я кому-нибудь?
Таким скромным артистом он остался и до конца своих дней.
«Изводил» после каждой новой роли:
– Нет, серьёзно? По твоему мнению, ничего? Нет, ты мне скажи откровенно! Я, честное слово, не обижусь! Ничего?
Скромность и застенчивость большого и истинного таланта.
Застенчивость, конфузливость, с какими человек открывает тайники своей души, сокровенное своего творчества.
И конфузится:
– А вдруг в моей душе ничего достопримечательного не происходит?
Конфузливость и болезненная стыдливость молодой девушки, которая подаёт вам свой «заветный» альбом.
Милая и смешная во взрослом человеке.
Но талант – всегда девушка.
И каждый раз, – в новой роли, в новой повести, в новой картине, – отдаётся в первый раз.
Как артист, он был реалист. Самый правдивый.
– Я, брат, могу играть только таких людей, каких я видел. А каких на свете не бывает, – я играть не могу!
«Каких на свете не бывает» – он называл:
– Всех этих Гамлетов, Акост.
«Гамлета» он боялся.
– Озолоти, – не выйду. Представь себе, что на сцене позволили бы изображать Христа. Разве возможно? Всякий актёр не понравился бы. Всякий человек, мой друг, носит в душе своего Христа и своего Гамлета. А потому ему ни один Христос, и ни один Гамлет не понравятся. «Не то!»
Но каждый человек носит в душе и своего Чацкого.
Это не мешало ему играть Чацкого, быть превосходным Чацким, быть лучшим из Чацких.
Под конец своей жизни он сыграл толстовского «Царя Бориса».
Н. Н. Соловцов сделал ему тяжёлое царское облачение из кованой парчи. Декорация первого акта представляла точную копию Грановитой палаты, для «красного» кремлёвского звона был приглашён из киевской лавры звонарь-виртуоз, из Москвы был выписан набор «малиновых» колоколов.
Когда, вслед за бесконечным шествием бояр, при радостном перезвоне кремлёвских колоколов, при громе пушек, при кликах народа, в шапке Мономаха, с державой и скипетром, Борис взошёл на трон:
– Холод, понимаешь, меня охватил! Горло сжало! Слова сказать не могу! Борисом себя почувствовал! Ужас взял!
В Бориса он влюбился.
И вдруг его потянуло на Шекспира.
Разлакомился!
– Забеременел я, понимаешь, от Бориса! Как беременную на капусту, понимаешь, позывает меня на Шекспира. Вынь да положь Шекспира!
Он мечтал о «Макбете».
Готовился.
Совершался перелом. Быть может, начиналась новая эра его творчества. Куда лучезарнее!
Но в это время его убили.
Как он играл?
Рассказывать это было бы бесполезно.
Расскажите мне вкус фисташкового мороженого?
Ну, вот так же не можно рассказать, как играл актёр.
Он любил играть «немножко злодеев».
Его любимыми ролями, например, были адвокат в Арказановых, Пропорьев в «Цепях».
Как всех слабохарактерных людей, его тянуло к сильным, «железным» людям.
Вспомните, с какой завистью Тургенев описывает Колосова.
Но одной из лучших его ролей был «русский Гамлет».
Чеховский Иванов.
Он был поэтом рыхлого, слабого, русского человека.
Это был:
– Актёр Чехова.
В чеховских ролях он достиг вершин своего творчества.
Когда он играл Иванова, дядю Ваню, Тригорина в «Чайке», – чувствовалась чеховская душа.
Недаром он любил в литературе Чехова, в живописи – Левитана.
Он понимал и любил слабость русского человека, потому что сам был таким, и с любовью их рисовал, как с любовью говорят о близких людях.
Ценным для актёра качеством, – способностью перевоплощения, – Рощин-Инсаров обладал в высокой степени.
Блестящий гусар, – а он был не просто гусаром, но и блестящим! – был превосходен в роли Никиты во «Власти тьмы».
Я сейчас вижу его осклабленное лицо и корявый палец.
– И люблю я этих баб! Ровно сахар!
И пальцем делает такое движение, словно к себе кусочек сахара пододвигает.
А какой это был молодой лакей в «Плодах просвещения»!
Высоко-корректный и наглый.
Целая гамма, как он надевает калоши молодым, старым, красивым, некрасивым, толстым, худеньким.
Это был изумительный представитель умирающего амплуа.
– Любовник.
Не теперешний неврастеник, а «настоящий любовник».
Он был последним из Арманов Дювалей.
И. П. Киселевский, – не тем будь помянут! – не баловал своих товарищей добрыми отзывами.
Единственный, про кого он никогда не отзывался дурно, – был Рощин.
Он любил его, быть может, видя в нём:
– Будущего себя.
И когда Рощин играл Армана Дюваля, – И. П. Киселевский все сцены смотрел из-за кулис или из зрительного зала[17].
Он говорил:
– Ты мне так этого Армана Дюваля сыграй. – чтоб я чувствовал, что, действительно, тобою не увлечься невозможно. Что будь я Маргаритой Готье, – и я бы переродился! Словом, чтоб я поверил!
И Рощин играл так, что поверить было можно!
Тут было, быть может, много «сердца горестных замет».
Но он умел находить такие ноты!
И сам перерождался, и увлекал своим перерождением Маргариту Готье.
Как настоящий русский талант, – у него было много юмора.
Без юмора русского таланта не бывает.
Мы – смешливый народ.
Живо осмеёт вас мужик. «Скалит зубы» мастеровой. Изощряется в остроумьи рядский торговец.
Пушкин, Тургенев, Толстой в «Плодах просвещения», мрачный Достоевский, – смеялись все.
Мы идём тяжёлой дорогой, – и если бы не посмеивались, что бы из нас было?
Рощин был удивительный Глумов – «На всякого мудреца довольно простоты».
И кто видел его «В горах Кавказа», Щеглова, тот никогда не забудет этого вечера хохота.
Сокровенной мечтой, – но уже сокровенной, было…
Много он мне жилеток перепортил своими слезами, – но об этой сокровенной мечте мне он сказал только года за два до смерти.
Сознался.
Сознался конфузливо, даже покраснел.
Как открывают величайшую тайну своей души.
Он мечтал, всю жизнь мечтал:
– Сыграть… городничего.
Что он находил в этой роли «ещё не сыгранного», – не знаю. Но готовился он к ней постоянно.
– Всякий день о городничем думаю.
Готовился с каким-то религиозным благоговением и страхом.
За шесть месяцев до смерти он решился сделать «пробу».
Выступил.
Выбрал для этого дачный театр, в Боярке, под Киевом.
К сожалению, те игравшие с ним, с которыми мне пришлось встретиться, многого рассказать мне не могли.