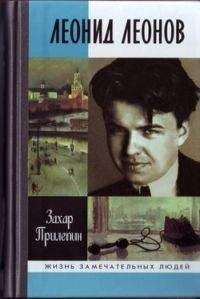Каков леоновский тон, оцените! Что-де может быть гаже, чем очутиться среди красноармейцев, да еще и подохнуть вместе с ними.
Пришлось плыть на пароходе, в третьем классе: билеты в первый и второй уже были распроданы. Сначала до Устюга, оттуда до Котласа.
«А в Котласе, – сообщает Леонов, – уже стояли “коммунистические” пароходы с некоторыми из социал-бегунов во главе. Некоторые из последних заглянули на наш пароход, подумали и решили – выгнать вон с парохода!..
И нас торжественно высадили».
«Социал-бегунами», поясним, Леонов называет большевиков.
В Котласе путешественники с горем пополам пересели на баржу.
«Степану Григорьевичу, – рассказывает Леонов, – пришлось спать на столе – привилегированное положение в некотором роде. Настроение у нашей компании было хорошее, и покуда мы не падали духом, на баржу бегали жители, кричали и охали бабы, не зная, куда деваться со своим скарбом, куда бежать от грядущих бедствий, щедро обещанных коммунистическими оракулами.
Легли спать. Кто где мог – там и устроился.
Один из соучастников по этому “путешествию”, также принужденный преклонить свою буйную главу на худой, ветхой барже в эту холодную, мокрую ночь, засмеялся, увидев художника Писахова на столе.
– Отпевать его или он уже отпет?
Степан Григорьевич сквозь сон недовольно буркнул:
– “Отпетые” уезжают уже, и жаль, что не нам приходится хоронить их…»
Это он о большевиках так.
«…Утром, – продолжает Леонов, – мы узнали, что коммунистические пароходы уже “снялись с якорей”, и, может быть, вследствие их счастливого отплытия к далекой Белокаменной оставшиеся власти милостиво выдали нам по 1/2 фунта хлеба на человека. <…>
Уже к прибытию нашему в Пучугу – одну из деревень, лежавших на пути нашего путешествия, – женщины продавали обручальные кольца, подушки и драгоценности, не зная, что будет дальше».
В Пучуге их высадили снова, они нашли другую баржу, а Писахов опять пристроился подремать на столе. «Второй стол в моей жизни!» – пошутил он.
К вечеру опять высадились и пересели на лошадей, добрались до деревни Березняки, где встретили красноармейскую заставу, которую Леонов за чрезмерную вооруженность иронично обозвал в своей статье «громовержцами». Из Березняков Писахов, Леонов и трое их попутчиков отправились на Пянду. Там начали искать лодчонку, чтобы доплыть до Архангельска.
На этом берегу Леонову впервые пришлось столкнуться со смертью лицом к лицу.
По реке шла моторная лодка с красноармейцами: они подплыли почти вплотную и неожиданно дали залп по безоружным людям. Один, раненный в ногу, упал, второй был сразу убит. «Пуля вошла в висок и вышла через затылок», – констатирует Леонов в своих невеселых заметках.
Сам Леонид и Степан Григорьевич Писахов не были задеты первыми выстрелами и сразу отбежали от берега.
Красноармейцы причаливать и ловить беглецов не стали, сразу уплыли.
Писахов подхватил раненого, и они отправились в дом местного священника о. Александра.
Тот, пишет Леонов, «очевидно привыкнув к подобным перепалкам, мягко и любезно принял пришедших, успокоил и видом своим, и своим радушным приемом и рассказал, что красноармейцы разгневаны на Пянду за то, что крестьяне, не будучи в состоянии дальше выдерживать реквизиции, грабежи и поборы, смешанные с хулиганскими выходками со стороны “рабоче-крестьянской” армии, несколько раз сами выступали против державных негодяев и вступали с ними в довольно решительные стычки на Березянке.
О. Александр предложил чай, но мы были принуждены отказаться за поздним временем и пошли обратно домой, в те крестьянские хаты, в которых мы разместились.
А к Пянде уже подходила красноармейская дружина, успевшая съездить за подкреплением в Березник».
«…Воинственно бряцая оружием» они, вспоминает Леонов, «опрашивали, где находятся недавно приехавшие люди».
Дом, где разместились путешественники, вскоре нашли и оцепили. И то были минуты, когда Леонов мог всерьез прощаться с жизнью.
Но всё обошлось.
«…Широко размахивая красными руками, – пишет Леонов, – вошел комиссар (фамилия его, как мы после узнали, – Виноградов, один из “Архангельских”), постоял в дверях, плюнул в угол».
Свернув цыгарку, комиссар поинтересовался:
– Вы чего от берега убежали?
У путешественников, едва не перебитых несколько часов назад, от такого вопроса вовсе пропала речь, но, к счастью, за них вступилась хозяйка дома:
– Что ты, батюшка, окстись, в живых людей стреляешь, а еще спрашиваешь?
Комиссар самодовольно улыбнулся, плюнул еще раз и двинул свою тушу к дверям, вероятно, “углублять революцию” в соседних деревнях. <…> Осада с дома была снята», – вспоминает Леонов.
Несчастные, испуганные и внутренне обозленные, они двинулись дальше. «Двое, – замечает Леонов, – остались в Пянде. Один, “господин с пробитой головой”, как назвал его социал-палач, остался навсегда в земле, другой в больнице».
«При выезде из деревни, – продолжает Леонов, – снова, как из земли, выросла новая красноармейская застава. Эти уже совсем похожи на разбойников. Звериные оклики, зверское перемигивание, разухабистые широкие жесты…»
Но и эта встреча для путешественников закончилась благополучно.
«…На всем пути от Москвы до Устюга общее настроение крестьян таково – ждут, когда придут союзники и освободят наконец их от большевиков. <…> Во всех деревнях нас засыпали вопросами: Скоро ли? Когда же!» – рассказывает Леонов.
Белогвардейцев в статье своей Леонов называет не иначе как «народные отряды», а десант, захвативший Архангельск, – исключительно «союзниками».
Вернувшись, наконец, домой, они застали Архангельск ликующим. Новые подкрепления «союзников» горожане встречали как освободителей: по крайней мере те, кто выходил на парадную пристань Архангельского порта. Были среди них и Писахов с Леонидом Леоновым. Где ж еще было находиться ему, сумевшему в пределах одной статьи назвать большевиков и «социал-палачами», и «социал-бегунами» и со зверями сравнить…
Любопытно, что при встрече «союзников» были подняты два флага: русский национальный и красный, что знаменовало верность не только родине, но и первой революции.
В кругу Леоновых тогда взахлёб говорили об объединении всех демократических сил, восстановлении порядка и возвращении тех земель, что стремительно растеряла заблудшая Россия.
Самый город обновился и ожил. Англичане завезли в город обувь и ткани; французы – шелка и духи. Архангельские женщины вдохновенно скупали заморские товары. Настроения в среде интеллигенции были самые радужные. Всем казалось, что большевистская власть осыплется по всей Руси столь же скоро, как скоро сбежала она из Архангельска.