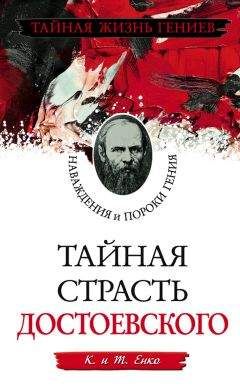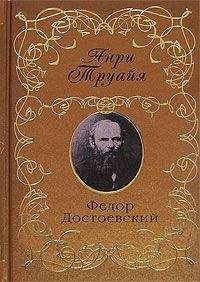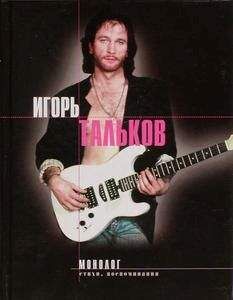Когда он, наконец, мог выехать из Петербурга, у него было очень мало денег. И, как всегда, уступая другой своей неодолимой страсти игрока, он решил остановиться по дороге в Париж в Висбадене, чтобы попытать счастья у зеленого стола. В столкновении двух страстей, любовной и игорной, последняя берет верх, хотя бы на самый короткий срок.
От 21 до 24 августа в Висбадене Достоевский играет в рулетку. На этот раз ему не только удается выиграть крупную сумму, но, потеряв затем половину её, остановиться и во время покинуть Висбаден. У него на руках оказывается свыше пяти тысяч франков.
Часть он предназначает жене, на остальные собирается путешествовать с любимой девушкой. Полный радужных надежд, он приезжает в Париж и посылает Аполлинарии записку срочной почтой, но ему не терпится повидать её, и, не дожидаясь ответа, он едет в пансион на левом берегу Сены, где она живет.
Аполлинария сидела у окна в своей комнате, и вдруг увидала на улице Достоевского: быстрыми шагами он направлялся к её дому. Через несколько минут горничная сообщила ей, что гость ждет её в салоне. Она медленно сошла вниз. Вот как она описывает это свидание:
«Здравствуй, — сказала я ему дрожащим голосом. Он спрашивал меня, что со мной, и ещё более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось и беспокойство.
— Я думала, что ты не приедешь, — сказала я, — потому что написала тебе письмо.
— Какое письмо?
— Чтоб ты не приехал…
— Отчего?
— Оттого, что поздно.
— Он опустил голову. — Поля, — сказал он после короткого молчания, — я должен все знать. Пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру.
Я предложила ехать с ним к нему.
Всю дорогу мы молчали. Он только по временам кричал кучеру отчаянным и нетерпеливым голосом „вит, вит“, причем тот иногда оборачивался и смотрел с недоумением. Я старалась не смотреть на Федора Михайловича. Он тоже не смотрел на меня, но всю дорогу держал мою руку и по временам пожимал её и делал какие-то судорожные движения. „Успокойся, ведь я с тобой“, — сказала я.
Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая мои колени, говорил: „Я потерял тебя, я это знал“. Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек: может быть, он красавец, молод, говорун. Я долго не хотела ему отвечать.
— Ты отдалась ему совершенно?
— Не спрашивай, это нехорошо, — сказала я.
— Поля, я не знаю, что хорошо, что дурно. Кто он, русский, француз?
Я сказала ему, что очень люблю этого человека.
— Ты счастлива?
— Нет.
— Как же это? Любишь и несчастлива. Как, возможно ли это?
— Он меня не любит.
— Не любит! — вскричал он, схватившись за голову в отчаянии. — Но ты не любишь его, как раба, скажи мне это, мне нужно это знать. Неправда ли, ты пойдешь с ним на край света?
— Нет, я уеду в деревню, — сказала я, заливаясь слезами».
И тут она рассказала ему о том, что произошло.
Вскоре после приезда в Париж Аполлинария познакомилась со студентом-медиком, испанцем Сальвадором. У него было красивое, мужественное лицо, гордый вид, отличные манеры, она быстро подпала под его обаяние, а затем и влюбилась в него, что ни день то жарче и сильнее. Это внезапно вспыхнувшее и страстное чувство было, вероятно, в значительной мере основано на контрасте между Сальвадором и Достоевским. Вместо тяжелой и несколько стыдной связи с сорокалетним эпилептиком, вместо идеализации возлюбленного и умственного построения образа, далекого от действительности, она вдруг прикоснулась к латинскому веселью, к ничем незамутненной здоровой чувственности. Это был выход в новый мир. В объятиях Сальвадора она нашла простоту и легкость, и они были так очаровательны после недавней путаницы и сложности. Она ещё не подозревала, что простота выродится в пустоту, а под легкостью скрывается легкомыслие. Ее сердце и тело были глубоко затронуты, для него же это было одно из многочисленных и мимолетных приключений. Следуя своей морали свободы и независимости, Аполлинария смело приняла нахлынувшую любовь и, не колеблясь, отдалась Сальвадору. Добившись своего или, как выражался Достоевский, «толку», Сальвадор стал быстро охладевать: возможно, что пылкость «сумасбродной русской» испугала его, огонь, который он случайно в ней зажег, грозил теперь пожаром, а он вовсе этого не желал. Тут снова возникло трагическое противоречие между тем, чего искала Аполлинария, и тем, что мог ей предложить красивый студент Латинского квартала. Ему — похождение, ей первая страстная любовь, тем более опасная, что была она второй. Он начал избегать её под всяческими предлогами, а она, ещё не понимая до конца, что происходит, но уже угадывая неладное, старалась удержать его — и своей нежностью, и своими ласками, безыскусными или искусственными, от которых ей самой делалось потом тошно и противно. Для нее, самовластной и гордой, была невыносима мысль, что её обманывают и что она должна заплатить за свое увлечение обидой и раскаянием.
И она не хотела признаться, что разница между прежним и нынешним была не так уже велика: она бежала от мрачного сладострастия пожилого человека, а попала в сети молодому зверю, у которого ничего, кроме сладострастия, и не было.
Как раз в те дни, когда Достоевский выехал из Петербурга, а затем, от 21 до 24 августа играл в рулетку, она вела подробную запись всего, что она переживала. 19 августа Сальвадор сообщил ей, что ему скоро придется ехать в Америку.
«Хотя я этого и ожидала, он меня поразил: чувство испуга и страдания, должно быть, ясно выразилось на моем лице. Он поцеловал меня. Я закусила губу и сделала неимоверное усилие, чтобы не зарыдать… Сейчас получила письмо от Федора Михайловича. Он приедет через несколько дней. Я хотела видеть его, чтобы сказать все, но теперь решила писать». В тот же день она пишет ему записку и кладет её в ящик письменного стола: когда Достоевский появится в Париже, она пошлет ему это заранее составленное признание.
До встречи с Сальвадором Аполлинария ждала приезда Достоевского со смешанным чувством боязни и надежды. Иногда она страшилась, что в Париже повторятся петербургские ночи, а иногда, если было скучно, тосковала по нем и желала, чтоб он был рядом с ней. Она готовилась к путешествию по Европе, радуясь, что скоро увидит Швейцарию и Италию. Но едва она влюбилась в Сальвадора, как перестала беспокоиться о Достоевском. Со всем эгоизмом молодости и той жестокостью, которая так была ей свойственна, она даже не предупредила его о случившемся, не написала, что ему, пожалуй, лучше было бы не приезжать. Она отлично понимала, что её измена будет для Достоевского оглушительным ударом. Но в ней была изрядная доля злорадства: ей хотелось причинить боль своему первому любовнику, отомстить ему, показать, что она сильнее его и больше в нем не нуждается. Когда же её роман с испанцем начал запутываться и грозить неприятностями, если не катастрофой, её мысли опять обратились к Достоевскому. Теперь она была почти готова вычеркнуть из памяти все темное и больное, что приключилось в Петербурге, и видела один только «сияющий лик» своего друга — его доброту и тонкость, ум и талант. Втайне она жаждала его присутствия: она нуждалась в помощи и совете, хотя эти стремления и не доходили до её сознания. Получив известие о его близком приезде, она вдруг испугалась, и, чтобы избежать неприятного объяснения с глазу на глаз, она, с характерной для неё расчетливостью, предпочла заранее приготовить текст, который должен был в надлежащий момент поставить его в известность о разрыве.