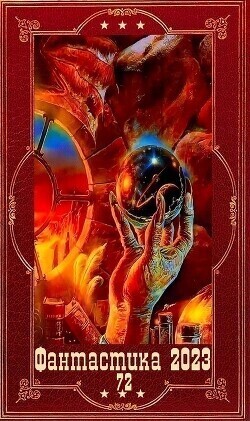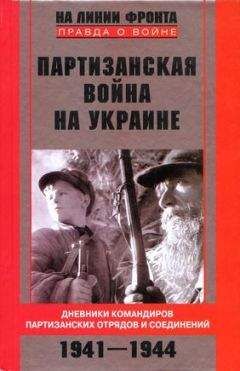восемнадцатой роты готовила к выпуску очередной номер стенной газеты. Передовица, как и подобало, была написана политруком роты Гераськиным и похожа на любую из передовиц. Зато прочие разделы блистали содержанием, красноречием и остроумием. В газете охотно сотрудничали Олег Радченко, Костя Бочаров, поэт Виктор Федотов, Вячеслав Михайлович Симорин – помреж с «Мосфильма», юрист Лемке, историк Гришин и другие. Я отвечал за художественное оформление, Бочаров ведал литературной частью, отделом сатиры и юмора – Мкартанянц. Не имея иной возможности интеллектуального и творческого самовыражения, наши курсанты изощрялись в сочинении статей по проблемам науки, культуры и искусства на довольно-таки высоком уровне. Поэты писали стихи. Отдел сатиры и юмора собирал толпы народа, и нашу стенную прессу приходили смотреть и читать из других соседних рот.
Окончив рисование, я растянулся в блаженной позе на койке в ожидании прихода подразделения с занятий. Костя с Олегом приколачивали газету в вестибюле, и я слышал, как они переругиваются. Потом и они, придя в комнату, залезли каждый на свою койку. Некоторое время лежали молча. Наконец Олег спросил:
– Что пишут из Москвы?
– Мать сообщает, что теперь там выставка Антона Николаевича Чиркова – нашего педагога в училище живописи. Молодой – сорока еще нет.
– А направления какого? – слышу я голос Кости Бочарова.
– Направления? Скорее новозападного. Любит Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса. И не любит твоего родственника – Саврасова.
– Значит, из «левых»! – заключает Костя. – Это хорошо!
Сам Бочаров считал себя ярым приверженцем импрессионизма и на правах родственника «великого передвижника» признавал за собою исключительное право хаять русское искусство прошлых веков. Рассуждая о «ретроградах» и «прогрессистах», Костя, лежа на своей койке, одновременно что-то жевал.
– Ты что там чавкаешь? – услышал я голос Олега.
– Хлеб ем с «кремом», – отозвался Костя, – от наряда остался.
Сегодня за завтраком вместо сливочного масла дали топленое, и все стали готовить «крем» – перетирать масло с сахаром. Достал и я сэкономленную краюху ситного, намазал «кремом» собственного приготовления и стал есть, вспоминая Москву, художественное училище и Антона Николаевича Чиркова. Мог ли я тогда предполагать, что жить ему оставалось совсем недолго. Он умер в том же году, осенью.
Блаженствовали на койках мы недолго. Вернувшуюся с занятий роту сразу же отправили на разгрузку баржи с продовольствием. Привезли рис, вермишель, муку, сахар, томаты, компот. Утро было солнечным и прохладным, а к вечеру задули сильные ветры – резкие и холодные. Удивительно быстро меняется погода в этом северном крае. То ясно – то вдруг небо как-то сразу покрывается рваными, неуютными облаками и синева его приобретает пронзительно-ледяной оттенок. На пристани от баржи до берега перекинуты шаткие дощатые сходни, прогибающиеся под ногами. С тяжелыми мешками на спине, до сорока килограммов весу, бегать по этим вибрирующим доскам тяжело и страшно. Зато в казарме ждала нас удвоенная порция ужина, а в качестве деликатеса – копченая вобла.
22 июля. На разводе стало известно о предстоящем ночном походе. Тема: стажировка командиров орудийных расчетов в тяжелых условиях ночного боя. Погода портилась.
Идет нудный, затяжной дождь. Курсанты шутят: «Начальство специально выбирает ноченьки потемнее да пострашнее». Приятного, естественно, в подобных учениях мало – это ясно и дураку. Однако была в них, безусловно, и своя неопровержимая логика, в которой, в общем-то, никто не сомневался, и суворовская поговорка «тяжело в учении, легко в бою» до предела проста и бесспорна.
Готовясь к предстоящему походу, я сетовал на то, что, собираясь из дома, не захватил с собою красно-синего карандаша, без которого, по моим представлениям, будущему командиру нечего делать на тактических учениях. «Собирался неумело, – записал я себе на память, – взял из дома много лишнего, а не взял необходимого: именно того, что нужно курсанту военного училища при стажировке в должности командира». Откровенно говоря, я не представлял себе, что бы я делал с этим красно-синим карандашом в предполагаемом походе. Просто небольшой огрызок красно-синего карандаша, даже еще и не нужный в конкретной практике стажера, воспринимался мною как элемент самоопределения, наподобие аксельбанта штабного офицера в дореволюционной армии. Как бы там ни было, а на учениях в ту ночь так и пришлось мне шлепать по грязи, в непроглядной тьме, с тяжелым минометным стволом на плече, без красно-синего карандаша.
Не пришло, очевидно, еще время, которое, как я убедился в дальнейшем, никогда не следует торопить.
23 июля. После тяжкого ночного похода спали до обеда. Во второй половине дня отдыхали, предоставленные самим себе. Я сижу на скамейке в нашем саду под липами – здесь у нас классы на открытом воздухе. Закат! Неповторимо красивый закат! Закат, вызывающий в душе какое-то особенное щемящее и в то же время восторженное чувство. Небо все в рваных, быстро летящих облаках, подсвеченных заходящим солнцем. Суровы и колоритны устюжские закаты – густые и сочные. В них как бы отражается все существо души русского человека – души мятущейся, неуемной, противоречивой и в то же время особенно чуткой, таинственной, духовно наполненной. Я пил чай. В одной руке эмалированная кружка, в другой – кусок хлеба, намазанный маслом. Утром на базаре мне удалось купить стакан черники. Я надавил ее с сахаром и заварил кипятком. Денег, правда, осталось не более рубля, ну да на казенных харчах можно прожить и без денег.
24 июля. Дивизион сдает зачетные стрельбы. Наш взвод вновь в оцеплении. Подъем в пять утра. Идем лесом, собираем ягоды, спугнули тетерок. Смех! На место вышли к восьми часам. Сниматься приказано в четыре. Погода солнечная, но не жаркая – скорее приятно-прохладная. Вокруг такая тишина, такой покой, что не верится, будто где-то идет война. Со мной книга, и время летит незаметно. Слышны сигналы трубача, глухая трескотня выстрелов, но ухо уже не обращает на них внимания. Как же мы прежде-то не ценили таких минут духовного и физического покоя?! В мире бушует кровавая, страшная бойня. Там некогда будет отдыхать. Политрук Гераськин вчера говорил о положении на фронтах – на юге опасно, как никогда. По ротам отбирают людей с дисциплинарными взысканиями, больных, хилых, ленивых, малоспособных, бесперспективных на предмет отчисления их с маршевой ротой. Редеют учебные роты. Скоро, очень скоро в артиллерийско-минометном дивизионе вместо четырех учебных рот будет две, а к выпуску всех сведут в одну батарею, не превышавшую численностью ста сорока человек.
25 июля. На полигоне боевые стрельбы из минометов. Стрелять должны лишь сводно-показательные расчеты: два взвода пятидесяток, взвод 82-миллиметровок, один расчет полковых стодвадцаток. От нас командирами орудий восьмидесяти двух минометов 82-миллиметрового калибра назначены Радченко и Курочкин. Впервые в