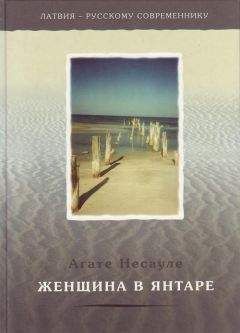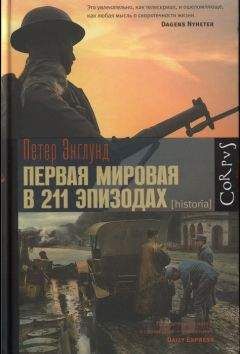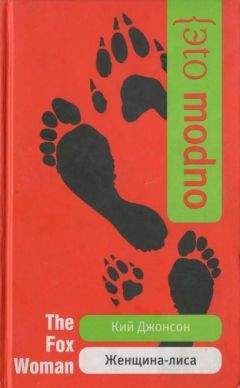Тетя Гермина и мама приподняли один из соломенных матрасов, и Астрида легла на цементный пол. Сверху на нее положили матрас, на него подушки и пальто. Мы наполовину сидели, наполовину лежали на матрасе. Мы чувствовали, как Астрида беспомощно ворочается под нами, и чуть не каждую минуту старались сменить позу, чтобы не давить на нее своим весом. Однажды, когда два солдата смотрели прямо на нас, Астрида вдруг сильно зашевелилась. Тетя Гермина и мама, обе одновременно, стали зевать и потягиваться. Солдаты, заподозрив неладное, долго смотрели на нас, а потом вернулись за перегородку, где от боли стонала какая-то женщина.
Все это время Хильда с тупым выражением лица сидела рядом с бабушкой. И тут она заговорила.
— Я покончу с собой, я покончу с собой, — повторяла она одно и то же.
— Тише, милая, тише, — время от времени произносила бабушка, но, казалось, она не верит, что Хильда когда-нибудь замолчит. Она гладила ее руку, а Хильда продолжала свое.
Как только солдаты отворачивались, я дергала маму за юбку.
— Улыбнись, — просила я, — улыбнись, пожалуйста!
Мама заставляла себя улыбнуться.
— Скажи, что все будет в порядке, что солдаты уйдут.
— Все будет в порядке, солдаты уйдут. Но ты должна вести себя тихо-тихо. Не рассерди их, — автоматически шептала мама.
— Улыбнись, пожалуйста!
И снова мама изображала улыбку, похожую на гримасу, и удерживала ее пару секунд. В эти короткие мгновения я чувствовала себя неизмеримо лучше; может быть, в конце концов действительно все обойдется. Но как только мамино лицо омрачалось, меня снова обуревали отчаяние и страх.
В краткие спокойные минуты мама шептала мне и сестре:
— С вами ничего не случится, если вы будете молиться. Начинайте: «Отче наш, сущий на небесах!», молитесь очень тихо, но повторяйте все время. Вас не тронут.
Пока вокруг суетились солдаты, я про себя повторяла молитву, всем сердцем желая, чтобы они нас не тронули, чтобы они ушли наконец. Трудно было сосредоточиться на словах молитвы и одновременно хотеть чего-то другого, я едва-едва справлялась с этим. Я снова и снова повторяла слова молитвы, повторяла словно в беспамятстве, весь этот дождливый день, до поздней ночи.
На рассвете следующего дня женщин и детей вывели во двор. Мы этому обрадовались. Казалось, мы больше не выдержим того, что с нами творилось минувшим днем и ночью. Мы еще не знали, что в погребе нам предстоит пробыть долгие-долгие дни. Те, кто хотел умереть, тоже радовались. Может быть, теперь наконец нас всех расстреляют.
Было все так же холодно, все так же лил дождь. Вдалеке рвались снаряды, над головами пролетел самолет. Раздался взрыв, и снова все стихло. Но русских солдат это не обеспокоило, они чувствовали себя уверенно, захватив эту местность. Озеро было темным, почти черным, земля пропиталась дождем.
Женщин и детей построили полукругом перед старым красивым дубом. Его ветви могли бы укрыть нас от холодного дождя, если бы только нам разрешили под ним спрятаться.
Мы недоумевающе переглядывались. Если они собираются нас расстрелять, почему так поставили? Я знаю, ведь перед расстрелом приказывают самим копать себе могилу. Так поступили с Арием, так же поступали с людьми, которых убивали во время русской оккупации. В Латвии я слышала это от взрослых, сидя с ними до позднего вечера за обеденным столом. Как они собираются нас расстрелять и закопать, построив таким образом? Спросить об этом у мамы я не могла — солдаты смотрели прямо на нас. Если я заговорю, они рассердятся.
Солдаты толпились под дубом, передавая из рук в руки бутылку. Многие обвязали голову и плечи женскими плащами и шарфами, обернули ими бедра, чтобы не промокнуть. Было очень рано, почти невозможно было различить яркие красные и желтые цвета отобранной у женщин одежды, особенно на черном фоне танков. Мы замерзли, дрожали, дождь становился все холоднее, одежда на спине промокла, руки и ноги заледенели. Все молчали.
Внезапно мы услыхали свист — громкий, смелый, мелодичный. Кто-то насвистывал «К тебе, Господи, возношу душу свою». На дорожке, ведущей от главного здания, показался пастор Браун, и это нас приободрило. Он спасет нас от русских солдат, как многих до этого спас от немцев. Он идет, чтобы нас освободить, он прикажет солдатам оставить нас в покое и отведет нас в надежное место.
Но когда пастор Браун подошел к нам, мы увидели, что руки его связаны за спиной и ведут его солдаты с винтовками. А он увидел ожидающих женщин, испуганных детей, одинокий дуб и пьющих водку солдат. Если не еще раньше, то сейчас он отчетливо понял смысл происходящего. Он досвистел мелодию до последней ноты.
Солдаты вели его к дубу. Он решительно двинулся вперед, остановился возле мамы.
— Jubilate, — сказал он ей одной, — ликуйте, настал День вознесения.
— Jubilate, — ответила мама и потянулась рукой в его сторону, но между ними встал солдат. Казалось, пастор Браун понял этот жест.
— Jubilate, — кивнул он.
Я видела, как по маминым щекам, из-под низко, на самый лоб надвинутого платка, делавшего ее старше, текут слезы.
Пастор Браун снова стал насвистывать, все с той же решимостью. Он насвистывал «К тебе, Господи, возношу душу свою», пока солдаты не нашли белый платок и не завязали ему глаза. Он продолжал насвистывать, когда они подтолкнули его к дереву, а сами встали в ряд. Один из солдат накричал на него, вероятно, приказал замолчать, но говорил он по-русски, и, как бы там ни было, пастор Браун с завязанными белым платком глазами не замолчал. Он продолжал насвистывать, когда один из военных, возможно, офицер, погрозил кулаком в нашу сторону и выругался. Пастор Браун почти закончил второй куплет, когда раздались выстрелы, и свист оборвался.
После того, как я увидела, что они сделали с пастором Брауном, я перестала молиться. Молитвы утратили смысл. Никто не слышал, никто не помог, никто не поможет. Я не понимала, что никогда больше не вернется ко мне моя чистая вера в Бога. Картинка с изображением ангела, помогающего детям перейти через разрушенный мост в безопасное место, где можно укрыться от бури, висевшая когда-то над моей кроваткой в Латвии, будет казаться мне сентиментальной и вычурной. Я чувствовала себя чужой, лишней во время обшей семейной молитвы. Прервалась некая связующая нить, я об этом еще не знаю, как не знаю о том, как велика моя утрата.
Но глядя на шевелящиеся в молитве губы матери, я дергаю ее за рукав и шепчу:
— Улыбнись, пожалуйста.
Труп пастора Брауна остался лежать под дождем возле дуба, нас загнали обратно в погреб. Мы дрожали от холода. Было трудно поверить, что солдаты здесь появились меньше суток назад.