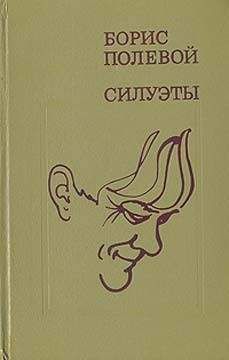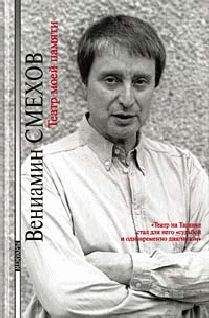К таким людям принадлежит и Самуил Маршак. Я был хорошо с ним знаком и, может быть, поэтому вспоминать о нем особенно трудно.
Маршак! Это имя я хорошо знал еще в моей далекой комсомольской юности. «Ах какой рассеянный с улицы Бассейной» — это было у нас поговоркой. А «Мистера Твистера» я рисковал когда-то декламировать со сцены молодежного клуба. Борьба за мир сводит нас с самыми разными иностранными людьми. Среди знакомых появились миллионеры и даже миллиардеры. Это очень разные люди, но в каждом из них я как-то невольно ищу и, что самое удивительное, нахожу какие-то черточки Мистера Твистера. Такова уж сила маршаковского слова.
Но стихи эти, как и все настоящие стихи, жили как бы сами по себе, в отрыве от автора, и с самим Самуилом Яковлевичем, создавшим их, я познакомился уже во время войны в редакции «Правды», куда он вместе с художниками Кукрыниксами давал свои политические, как тогда говаривали, — блицфельетоны, иллюстрируемые разящим пером этих трех мастеров. Впрочем «познакомился» не то слово. Просто почтительно пожал руку коренастого подвижного человека с крючковатой палкой в руках, человека простодушной внешности, в учительских очках в тонкой металлической оправе, с широким будто тронутым оспой лицом, на котором где-то, не то в глазах, не то в уголках рта, не то в морщинках у глаз, незаметно жили эдакие веселые чертики.
Да и позже, хотя мы несколько дней сидели с ним рядом в президиуме Второго съезда советских писателей, настоящего знакомства не произошло. Несколько вежливых фраз — это не знакомство. И хотя я по старой памяти оставался поклонником его музы, обладавшей великолепным, почти волшебным даром перевоплощения, хотя к тому времени именно он, Маршак, по-настоящему открыл для меня Роберта Бёрнса, Дж. Байрона, Вильяма Шекспира, Генриха Гейне, в президиуме съезда мы были лишь вежливыми собеседниками: «Ну, как вы себя чувствуете?» — «Ничего, неплохо, спасибо. А вы?»
По-настоящему Самуил Маршак открылся для меня как поэт и как человек лишь зимой 1955 года в совместной поездке в Шотландию на бёрнсовский фестиваль. Поездка эта была для меня неожиданной. Много дел было в Москве. Бёрнса я знал еще плохо, лететь в Шотландию было не с руки, тем более что в делегации будут знаменитый переводчик Бёрнса Самуил Маршак и знаток английской и шотландской литературы профессор Анна Елистратова. Кому из литераторов льстит перспектива быть гарниром при двух столь увесистых и сочных котлетах?
Встреча на Внуковском аэродроме, помнится, не улучшила настроения. Самуил Яковлевич появился в тяжелой шубе на хорьковом меху, в бобровой шапке, какие у нас зовут «боярками», с крючковатой тростью, в сопровождении стайки суетливых дам разных возрастов, которые на ходу закутывали его в кашне и шарфы и проявляли такие шумные заботы о здоровье, что на его месте было бы просто бессовестно тут же не занемочь. И он действительно слабым дребезжащим голосом сообщил, что чувствует себя неважно.
— Голубчик мой, — говорил он, покашливая, — я в авиации профан. Воздушное путешествие — это очень тяжело?.. Вы знаете, голубчик, у меня сомнения — как я все это перенесу. Лететь не надо бы. Врачи запрещают. Но я все-таки вот лечу… Как-никак бёрнсовский фестиваль. Для этого можно рискнуть. И они так трогательно, так настойчиво меня приглашали, эти самые организаторы, — просто по земле стелились…
Он стоял, тяжело опираясь на вопросительный знак своей трости, грузноватый, растерянный, и красивая молодая женщина — жена его сына, летевшего вместе с нами, старательно кутала его шею теплым мохнатым шарфом.
Что греха таить, кошки заскребли у меня на душе. А вдруг? Всякое бывает. Пронеси, господи, хотя бы через первый отрезок пути до Копенгагена.
Введенный под руки в самолет все теми же заботливыми и суетливыми дамами, к которым, вероятно, по корпоративному женскому чутью присоединилась и стюардесса, Самуил Яковлевич был бережно опущен в кресло, еще раз окутан шарфами и кашне, и наказы беречься, вовремя ложиться спать, и, не путая, принимать лекарства, перебил лишь вой прогреваемых моторов.
По старой военной привычке не терять в пути времени даром, я уснул сразу же, как только самолет поднялся в воздух. Но вопреки обыкновению проснулся необычайно быстро: кто-то энергично, сильной рукой тряс меня за плечо.
— Голубчик, извините, один, только один вопрос… Вы в авиации свой человек, — возле моего кресла стоял Маршак; шуба, шарфы, боярская шапка и палка с крючком — все это валялось на его кресле, а он стоял преображенный, крепкий, коренастый, энергичный, даже моложавый. — Ведь, кажется, они положили наш багаж в передний отсек? Ведь так? Ведь правда? Я не ошибаюсь?
Мы летели на самолете ИЛ-12, где багаж действительно клали в переднем отсеке, сразу же за пилотской кабиной.
— Там чемоданчик из крокодиловой кожи. Маленький безобидный такой чемоданчик. Голубчик, вы в авиации свой человек, у вас все летчики друзья, как нам достать этот чемоданчик, а? Вы его сразу узнаете — небольшой, крокодиловой кожи. Это сейчас очень важно. И вам, как мне кажется, ничего не стоит уговорить летчиков дать нам этот чемоданчик, ведь вы же написали повесть о летчике…
Уразумев наконец, что от меня хотят, скажу прямо, без особого удовольствия я подтвердил, что чемоданчик крокодиловой кожи, вероятно, достать действительно можно. Но зачем? К чему возиться? Мы же часа через два будем в Копенгагене.
На широком лице Самуила Яковлевича появилось прехитрейшее выражение, отчего лицо еще больше помолодело.
— В этом чемоданчике крокодиловой кожи, голубчик мой, у меня коньячок. Чудесный армянский коньячок, «Двин». Четыре звездочки. Мне кажется, сейчас самая пора пригубить хороший коньячок… Ведь я не ошибаюсь, нет? Ведь на этот счет в авиации нет каких-нибудь предрассудков?
Предрассудков в авиации на этот счет не было. Бутылка была извлечена из чемоданчика крокодиловой кожи и прогуливалась по всему салону. Пассажиры пришли в отличное настроение, и я больше всех, ибо видения сердечных приступов, нитроглицерина, свинцового гроба — все, что обступало меня на аэродроме, исчезло, сгинуло после пары рюмок. Передо мной был совсем другой, незнакомый, веселый, жизнерадостный Маршак, с жизнерадостной скороговорочкой, с юношеской озорцой, и веселые чертики, теперь уже не таясь, прыгали в его близоруких глазах за толстыми стеклами очков.
Вот с этим-то, новым для меня, Маршаком, обаятельным и жизнерадостным, совсем не похожим на расслабленного, избалованного старика, каким он выглядел в окружении заботливых дам на аэродроме, мы с профессором Елистратовой и сыном Маршака, инженером, которого Самуил Яковлевич звал Маршак-юниор, и совершили двухнедельное путешествие по бёрнсовским местам Шотландии и Англии. Это путешествие сейчас, много лет спустя, вспоминается как одна из самых интересных поездок.