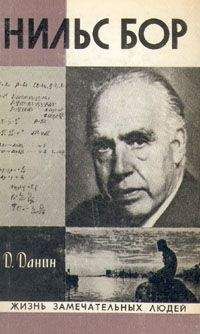Об этой-то богатой жатве и написал ему Нагаока. У японского теоретика был для этого личный мотив: десятью годами раньше он сам умозрительно построил похожую атомную модель в виде Сатурна с кольцами. И еще два современника по той же причине могли бы выразить Резерфорду свое удовлетворение — Петр Николаевич Лебедев и Жан Перрен: чистой игрой научного воображения — без доказательств — оба рисовали себе атом как микроподобие солнечной системы.
В мае 11-го года статья со странным предупреждением Резерфорда была опубликована в лондонском Philosophical Magazine — «Философском журнале». Возможность заговорить о богатой жатве теперь представилась всем. Однако прошло уже полгода, а этой возможностью никто из теоретиков не воспользовался. Лишь один молодой астрофизик в Трииити-колледже — Д. Никольсон — попробовал поработать с сатурнианско-планетарной моделью в своих исследованиях, но его первая статья еще лежала в типографии. И на том Кавендишевском обеде — в октябре — слова атомное ядро и планетарный атом не отягощали дружеских речей в честь Резерфорда. Через полвека на прямой вопрос историка: «Был ли тогда в Кавендише хоть кто-нибудь, кто принял атом Резерфорда всерьез?» — Бор без колебаний ответил отрицательно.
А Томсон? Неужели стареющий и всепонимающий Дж. Дж. не явился исключением? Нет, не явился. У него была своя модель атома.
Кажется, он сам придумал для нее вкусное сравнение: атом похож на кекс — отрицательно заряженные электроны-изюминки вкраплены в положительно заряженное тесто. Оно заполняет все атомное пространство. Однако с этим «положительно наэлектризованным пространством» ничего хорошего не получалось. Чем дальше шло время, тем меньше получалось. Вот и последние опыты резерфордовцев: от рыхлого атома с массой, размазанной по всему объему, альфа-частицы не могли бы отражаться назад…
Кавендишевец Рэлей-младший уверял, что Томсону и самому не очень нравилась его модель. Тем не менее он продолжал ревниво и безнадежно приспосабливать ее к объяснению физических и химических реалий в природе. Были даже иллюзии успеха. И жил ими в Кавендише не он один. А критика уже не будоражила его внимания. И чужие идеи уже не возбуждали в нем интереса. Теперь — через двадцать семь лет после начала своего кавендишевского отцовства — он втайне выдал себе охранную грамоту на случай любых притязаний детей:
«Молодым людям не следовало бы высказывать всякую всячину. Я знаю о данном предмете гораздо больше, чем они, и я уже обдумал все…»
Это слова не самого Дж. Дж. Так в 1962 году, рассказывая историкам о далеком прошлом, сформулировал за Томсона его тогдашнюю психологическую позицию старый Нильс Бор.
…А молодой Бор в часы Кавендишевского обеда 11-го года всего этого еще не понимал. Он видел: Томсон и Резерфорд стоят на стульях плечом к плечу, и оба, улыбаясь, раскачиваются в такт веселым мелодиям. И ничто не омрачало ощущения их духовного единства. И в голову молодого датчанина не могла прокрасться мысль, что его кембриджские неудачи вовсе не случайность.
А на Резерфорда он смотрел во все глаза совсем не потому, что успел плениться его новыми идеями. Майской статьи новозеландца о структуре атома он не читал. Да и был еще увлечен томсоновской моделью. По признанию Бора, на него произвела тогда глубокое впечатление сама личность Резерфорда. Он просто с первого взгляда почуял надежность этой силы.
Их не познакомили во время обеда. Подойти представиться Бор не мог. Скорее он провалился бы сквозь землю. Но чувство уже подсказывало ему, что он будет искать новой встречи с этим человеком.
Наступила глубокая осень. Перемены в природе ясно обозначили бег уходящего времени. В письмах к Маргарет он писал о красных пятнах рябиновых ягод на живых изгородях вдоль Кема и об одиноких ивах, наполненных ветром. «…Только вообрази себе все это под величественным небом со стремительно летящими облаками…» Ему нравилась жизнь, и он сам жаждал движения, деятельности, перемен. Еще он писал о маленьком копенгагенском мальчике, которого отец ведет за руку в церковь — послушать рождественскую службу — и ничего не говорит о боге, а просто затем ведет, чтобы малыш не чувствовал себя отличным от других детей. И за этим внезапным воспоминанием детства угадывалось его взрослое одиночество на чужих улицах и площадях. А Харальду он писал, как остроумна была лекция Томсона о полете мяча для гольфа. И за этим чувствовалось желание хоть чем-нибудь утешиться в своем кембриджском сидении.
От главного Дж. Дж. уклонялся — все с той же усталой ласковостью. Диссертация лежала непрочитанной. И публиковать ее никто не собирался. В его теоретических услугах не нуждались. Сколько же это могло продолжаться? И однажды его тихость взбунтовалась.
Едва ли можно иначе истолковать маленькую историю, рассказанную фру Маргарет… В то утро он сказал себе: «Надо наконец решить все разом!» И быстро отправился на Фри-Скуллэйн. Однако лаборатория встретила его тишиной. Только тогда он сообразил, что была суббота. Но порыв не прошел. Потому что это был не порыв, а кризис. Он бросился к телефону. Его не остановило, что в Англии уик-энд неприкосновенен так же, как частная собственность. Дж. Дж. был дома. Очевидно, звучало в голосе датчанина что-то такое, что не позволило Томсону отечески посоветовать ему не портить субботы делами и физикой. После полудня аудиенция состоялась…
И снова ничего не произошло!
Однако та бесплодная попытка переломить судьбу не прошла бесследно. Он молча и бесповоротно решил расставаться с Кембриджем. И не тот ли день ускорил его поездку в Манчестер?
Побывать в Манчестере раньше или позже Бору следовало все равно: там жил ученик и друг его покойного отца — профессор физиологии Лоуренс Смит. Визит к нему был долгом печали. Бор все откладывал этот визит, а теперь сел наконец в манчестерский поезд. И кажется, впервые на британской земле ему улыбнулось везенье. Словно тень отца продолжала покровительствовать его намерениям. Оказалось: профессор Смит и профессор Резерфорд — близкие друзья. И чуть ли не в день приезда датчанин снова въяве услышал еще звучавшие в его ушах раскаты непомерного голоса новозеландца. И произошло это в домашней обстановке, уравнивающей собеседников.
Так в конце ноября 1911 года они познакомились — Резерфорд и Бор.
Резерфорд с воодушевлением рассказывал о недавней поездке на континент, куда он отправился сразу после Кавендишевского обеда. В Брюсселе происходило закрытое совещание ведущих теоретиков и экспериментаторов Европы.
Там собрались 23 исследователя, а 24-м участником встречи был тот, кто материально обеспечил присутствие всех остальных: седовласый Эрнест Сольвей — инженер и промышленник, странно-бескорыстный энтузиаст высокой науки. Он «делал деньги» рациональным производством соды и едва ли рассчитывал увеличить свои доходы раскрытием квантовой природы излучения! А именно так — Излучение и кванты — была заранее определена дискуссионная тема того 1-го Сольвеевского конгресса.