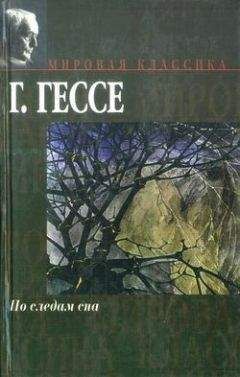Когда я в первые годы после первой войны увидел, как вся Германия, ничему не научившись, почти единодушно саботировала свою республику, мне стало легко принять швейцарское гражданство, чего я во время войны, несмотря на свое осуждение германской политики силы, сделать не мог. В одной из своих книг я тогда со страхом предупреждал о грядущей второй войне, но меня только снисходительно высмеяли. Тогда я навсегда отрекся от политической Германии. Сегодня я получаю много писем от немцев, которые были в 18-м году молодыми и пишут мне, что в ушах у них еще звенят мои статьи того времени и что лучше бы им и всем отнестись к моим предостережениям серьезнее.
Что ж, мне было легче, чем другим, не быть националистом. Наша семья была очень интернациональной, что вязалось и с миссионерством, и я уже рано ощущал, кроме духа Лютера и Бенгеля, дух Индии. Такие люди, как мой дед Гундерт и мой отец, собственно, уже и не могли быть националистами, но потребовалось еще одно поколение, чтобы это стало ясно. За это мы стоим теперь перед новыми, пугающими бедами и задачами! Согласен с Вами, что с мерками наказания и возмездия далеко не уйдешь и что освободиться от этого должны как раз те, кто сейчас тяжелее прочих страдает. Я часто радуюсь, что я стар и уже довольно дряхл. Но во многих письмах немецких друзей и читателей, особенно из лагерей военнопленных в Англии, Америке, Италии, Франции, Египте и т. д., я нахожу столько разума и доброй воли, столько просветленности тяжкими страданиями, что не могу расстаться с надеждой.
Тепло думает о Вас и шлет Вам привет
Баден близ Цюриха, 20.11.1945
Дорогой Гюнтер!
Уже несколько дней я лечусь в Бадене и только вчера получил твое письмецо от 4 ноября.
Ты прав, предпочитая вовсю работать, а не ржаветь, это наверняка лучше.
Слой интеллигентов, которых я имею в виду в «Дневнике. На горе Риги» и которые действительно всерьез противились Гитлеру и не давали ему подкупить себя, я считаю довольно тонким. Сегодня никто из всех этих трусов не хочет признать, что был нацистом, даже Геринг или Папен. Но на самом деле большинство «интеллектуалов», как то всегда было в Германии со времени Бисмарка, да и раньше, молчало и проспособлялось, а многие, хотя они сегодня об этом забыли, извлекали и выгоды из своего приспособленчества.
Недавно мне написал 78-летний вюртембергский епископ Вурм; он прочел сейчас мои статьи 1918 года и со всем согласился; а тогда, в 18-м или 19-м году, согласиться не смог бы, слишком националистически был он настроен. Если, стало быть, добронамеренный и умный старый человек, к тому же христианин, может лишь через 25 лет, после гитлеровского террора и после Второй проигранной мировой войны, принять и одобрить мысли и требования простой человечности, то чего уж ждать от других? Я не строю себе на этот счет никаких иллюзий. Но в конце концов и занимает меня не масса народа и не от нее я чего-то жду, а все дело в нескольких добронамеренных одиночках.
[…] Ах, оттого, что мы все еще ничего не можем послать в Германию, часто становится больно; это было бы так нужно. Но должно же это когда-нибудь снова стать возможным. Если я снова смогу послать обеим своим сестрам немного кофе, чаю и сахару и переписываться со своим берлинским издателем, это будет для меня большим облегчением.
До середины декабря собираюсь пробыть в Бадене, потом буду снова дома.
Дорогая госпожа С!
Большое Вам спасибо за Ваше прекрасное письмо, оно меня обрадовало.
А пускать в печать эту глупость насчет американского запрета не следовало, это произошло из-за какой-то непонятной мне болтливости.
Я в жизни всегда был на стороне униженных, гонимых и страдающих и почитал за честь для себя автоматически становиться противником тех, кто сегодня могуч и груб, будь то немецкие патриоты, нацисты или американцы. То, что этому болвану из американской армейской печати оказывают честь, отвечая на его угрозы мне, даже оправдывая меня, словно в том есть нужда, – это идиотство. И начнут ли в Германии снова печатать мои книги за пять минут до моей смерти или лишь несколько лет спустя, совершенно все равно.
А Вам спасибо за Ваше отношение и верность.
Дорогой Хайнер!
Спасибо за письмо. Жаль, что тебе не нужны сигары. Придется, наверно, отдать их в Красный Крест или в какой-нибудь лагерь для беженцев.
Ты горячо реагировал на слово «Бог» в моем новогоднем рассуждении, а также на мой скептический взгляд на «прогресс» в мировой истории.
Я со своей стороны не считаю, что два или шесть, или бесчисленные виды мировоззрения не могут мирно существовать рядом. С тем, что способ человека смотреть на мир есть средство борьбы и должен таковым быть, я не согласен. У меня есть своя вера, которой я обязан наполовину происхождению, наполовину опыту, и она не мешает мне ни проявлять уважение к иноверцам, ни сотрудничать в каком-либо начинании, имеющем целью улучшить человеческую жизнь. Очень большая часть моего труда в жизни состояла в работах этого рода, и в годы с 1919-го по примерно 1925-й вся пацифистская и космополитически мыслящая молодежь в Германии признавала прежде всех других два имени – Ромена Роллана и мое. Роллан, некогда убежденный приверженец Ганди и «неприменения силы» впоследствии одобрил чрезвычайно кровавую русскую революцию и стал на сторону коммунизма, что никак не затронуло и не омрачило нашей дружбы. Каждый из нас знал, что мир не может жить и не продвинется вперед без людей, способных к вере и к преданности этой вере. И я верил в своего «Бога», а он – в свой коммунизм, и каждый оставлял за другим право на его веру.
Я никогда не ждал от тебя и подавно не требовал, чтобы ты разделял взгляды старика, который почти целиком посвятил свою жизнь философии и поэзии. Полагаю, что и ты не станешь от меня требовать, чтобы я отбросил то, что осталось во мне плодом прожитого, поскольку нынешний мир обзавелся другими взглядами и другим лексиконом.
Сердечный привет тебе и вам всем, твой
папа.
В американское посольство
[Черновик, письмо не послано]
Монтаньола, 25.1.1946
Глубокоуважаемые господа!
Как Вам известно, осенью 1945 года некий кептен Хейб, в то время руководивший в Бад-Наугейме несколькими газетами, издаваемыми американской армией, направил мне письмо, где сообщил, что я недостоин выступать в нынешней Германии в качестве писателя и играть какую-либо литературную роль. Это странное заявление, выдержанное в надменном, подчеркнуто враждебном тоне, было оставлено мной без ответа, потому что говорить в таком тоне я не могу, потому что этот господин Хейб явно вообще ничего не знал ни обо мне, ни о моем творчестве, ни о моей политической позиции и ее влиянии, потому, наконец, что отнюдь не рвусь сотрудничать в нынешних немецких газетах.