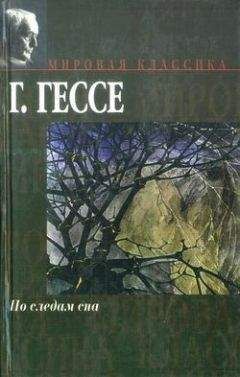В американское посольство
[Черновик, письмо не послано]
Монтаньола, 25.1.1946
Глубокоуважаемые господа!
Как Вам известно, осенью 1945 года некий кептен Хейб, в то время руководивший в Бад-Наугейме несколькими газетами, издаваемыми американской армией, направил мне письмо, где сообщил, что я недостоин выступать в нынешней Германии в качестве писателя и играть какую-либо литературную роль. Это странное заявление, выдержанное в надменном, подчеркнуто враждебном тоне, было оставлено мной без ответа, потому что говорить в таком тоне я не могу, потому что этот господин Хейб явно вообще ничего не знал ни обо мне, ни о моем творчестве, ни о моей политической позиции и ее влиянии, потому, наконец, что отнюдь не рвусь сотрудничать в нынешних немецких газетах.
Через моих друзей, с которыми я говорил о письме Хейба, что-то из этой комичной истории, против моего желания и к большому моему неудовольствию, проникло в часть швейцарской печати – в таком смысле, что будто бы Америка внесла меня в «черный список» или запретила печатать меня в Германии. В газеты, которые сочли нужным взять меня под защиту, я сразу же написал, чтобы они больше не упоминали об этой истории, а многие газеты, прежде всего «Нойе цюрхер цайтунг», попросил по телефону ничего по этому поводу не печатать.
Недавно от господина Хейба снова пришло письмо, копию которого прилагаю. Он в нем считает само собой разумеющимся, что эти отклики в прессе «организованы» мною, а в остальном повторяет свои выпады против меня. На всякий случай хочу уведомить Вас этими строчками, что я совершенно в том не повинен, если некоторые швейцарские газеты заговорят об этой истории. Нападки господина Хейба, на которые я не ответил ни одним словом, я никогда не принимал за официальные американские заявления, а считал личным нахальством этого господина.
Копию первого письма Хейба, где он упрекает меня за то, что я, в отличие от Томаса Манна, не метал в Гитлера статей и речей по радио, я послал своему другу Томасу Манну, прилагаю его ответ с замечанием, что это письмо должно, разумеется, послужить только для Вашей информации и ни в коем случае не может быть передано дальше, а тем более опубликовано.
Не жду от Вас ни ответа, ни высказывания, я хотел Вас только проинформировать.
С уважением
Дорогой друг!
[…] Что касается Р. Штрауса, то боюсь, что твое предчувствие тебя не обманывает: как бы ты ни поступил, потом это будет тебя как-то мучить! Такова уж гнусность теперешнего нашего положения, что все фронты пересекаются, что каждую минуту, поступив только что, казалось бы, правильно, спрашиваешь себя: а не было ли это все же ошибкой? Со мной происходит то же самое.
Когда я был в Бадене, Штраус был там, и я всячески избегал знакомства с ним, хотя этот красивый старик мне очень нравился. Однажды, когда я договаривался с Марквальдерами встретиться вечером, они обрадовались: какое удачное совпадение, Штраус тоже придет к ним в это же время и будет рад познакомиться со мной. Я ретировался, сказав, что не хочу знакомиться со Штраусом. Ему сообщили об этом, конечно, не в такой форме, а придумали мне какое-то оправдание.
То, что у Штрауса есть родственники евреи, это, конечно, никакая не рекомендация, никакое не оправдание для него, ибо именно из-за такого родства ему, давно уже сытому по горло, следовало бы не принимать привилегий и почестей еще и от нацистов. Он был достаточно стар, чтобы суметь удалиться и держаться подальше. То, что он не сумел так сделать, это, видимо, следствие его жизненной силы. «Жизнь» означала для него: успехи, почести, огромные доходы, банкеты, премьеры и т. д. и т. д. Без этого он не мог и не хотел жить, вот он и не нашел способа не поддаться дьяволу. Мы не вправе корить его. Но думаю, что мы все-таки вправе держаться от него на расстоянии.
Больше мне нечего сказать по этому поводу. В конечном счете Штраус всегда будет в выигрыше, ибо он никогда не станет рвать на себе волосы и мучиться угрызениями совести, Ведь он, несмотря на свое приспособленчество при нацистах, принадлежит к тем немногим немцам, которые сразу же получили от господ победителей разрешение на въезд в Швейцарию. Других, такого же возраста, как он, страдавших при Гитлере и сидевших в тюрьмах, Швейцария больше чем полгода назад пригласила приехать на отдых, но их победители не выпускают. Изжога начинается, как об этом подумаешь.
Вильгельму Шуссену, Тюбинген
Дорогой господин Шуссен!
Спасибо Вам за Ваше милое письмо от 14 февраля и за милого Шейфеле! Я давно уже жду возможности послать книги в Вашу страну; как только будет оказия, Вы что-нибудь получите.
Ваше письмо тронуло меня, но и очень испугало. Вы, значит, решительно ни о чем не знали! Не знали, что мюнхенский путч Гитлера показал, как он опасен, не знали, что ваши «республиканские» власти баловали его, вместо того чтобы наказать и т. п. и т. п., вплоть до мерзкого бокенгеймского документа, который задолго до прихода Гитлера к власти был напечатан во всех германских газетах и должен был окончательно открыть глаза каждому, кто хоть мало-мальски не хотел быть слепым. А потом, начиная с 1935 года, не было курорта в Вашей стране, возле которого не бросалось бы в глаза большое объявление «Евреи нежелательны», не говоря уж о встречавшейся на каждом шагу надписи «Жиды, сдохните», по которой любой, кто не был слеп, мог ясно понять, что не за горами погромы. Нет, уже за много лет до своего прихода к власти Гитлер перестал быть для меня загадкой, перестал быть загадкой, к сожалению, и немецкий народ, который потом выбрал этого сатану, перед ним преклонялся и разрешал ему творить любые мерзости. Я рад, что уже во время первой войны порвал с Германией и ее проклятой политикой пушек. Жизнь без родины – тоже не сахар, но она была мне бесконечно милее, чем соответственность за немецкую слепоту и равнодушную тупость в делах политических. Что и такой человек, как Вы, мог остаться слепым и наивным, это, если глядеть отсюда, со стороны, просто непостижимо. Что люди типа Корфица Хольма ни о чем не знали и не хотели знать, это меня нисколько не удивляет. Большинство моих друзей в Германии знали, что происходит, и одни в 1933 году сразу же эмигрировали, а другие исчезли в застенках гестапо, как исчезли в гиммлеровских печах в Освенциме почти все до одного родные и близкие моей жены. И Вы обо всем этом ничего не знали! Никто Вам, конечно, не поверит, ибо представить себе, как можно ничего не знать и быть невиновным, когда ты уже по колено в крови, ни один другой народ не в состоянии.
Но хватит об этом, что толку… В моих симпатиях к германским друзьям происшедшие события мало что изменили, ведь жизнь состоит не только из политики. Для нас за границей хуже всего была, собственно, полоса между 1933 и 1939 годами, когда эта мерзость все росла и росла и не видно было никаких признаков того, что мир возмутится и объявит ей войну. Начало войны было для нас, несмотря ни на что, облегчением. Наконец что-то произошло! И мы желали гибели Гитлера, и мы молились о гибели его полчищ, хотя в них не счесть было моих родных и близких.