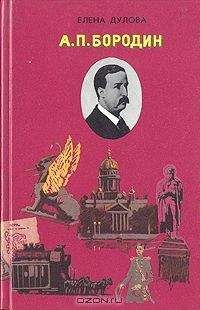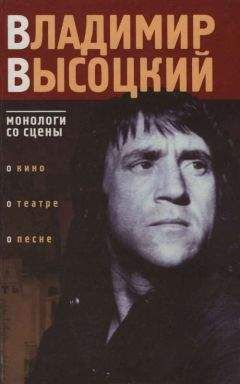Саша, несмотря на свою научную занятость, весь захвачен новой идеей. Очень уж ему этот сюжет по душе. Каков Стасов? За одну ночь сочинить сценариум. Да они с Александром оба неистовые, оба теперь пылают. Владимир Васильевич все древние рукописи в своей библиотеке перерыл. Одних только замечаний да разъяснений сколько понаписал. Бегают друг к дружке, советуются, спорят, мечтают… А дома Саша разгорячится да все читает мне вслух: то из «Летописи», то из «Слова о полку Игореве», то из сценариума. Чистая правда, замечательно подробно Стасов все сделал — ясно, как на ладони. Балакирев совсем разомлел, доволен. Как не разомлеть, когда трое, да, трое его «деток» на подвиг пустились. Модя вовсе одержимый, у него «Борис Годунов» зреет. Корсинька из времен Грозного «Псковитянку» пишет. Все трое сюжеты из русской истории взяли. Только уж и не знаю, как Сашура сумеет такую глыбу свернуть. Хоть и говорит, что сладит, — «волков бояться, в лес не ходить…». Ведь не живет, вертится, как в колесе. А тут еще Сеченов с Менделеевым тянут его организовывать не то университет, не то еще какое-то заведение для женского образования.
БАЛАКИРЕВ
Какими силами заставить этого кроткого упрямца заниматься настоящим делом? Его дело грандиозное, он, может быть, новый Глинка?! А тут, извольте… разные глупости встревают. Съезды, конференции, женское образование. Встречаемся. Спрашиваю:
— Вы, Александр Порфирьевич, когда собираетесь романс Кончаковны закончить?
Мнется. Мямлит. А потом — бух! «Я, — говорит, — решительно отрекаюсь. Куда мне, в самом деле, связываться с оперой». Меня как громом ударило. Год! Год работы пошел прахом. Начинаю убеждать, напоминать, только что на голове не стою для его воодушевления. Тщетно. Все наши свидания и разговоры впустую. И это воплощение доброты?! Да это разбойник, каких свет не видывал! Такое музыкальное чудо забросить. Подумать только… Кипел, кипел… вот те на! — выкипел! И на все мои уговаривания ладит свое да еще успокаивает: «Насчет матерьяла не волнуйтесь. Не пропадет. Весь пойдет на новую симфонию». Утешил, называется. Когда в нем такая силища! Ежели глупости свои химические бросит, так хватит и на пять опер, и на десять симфоний. Один Бог знает, чего бы еще только замечательного не вышло тогда.
БОРОДИН
Мое отречение от «Игоря» повергло музыкальную братию в уныние. «Плач и стон великий над Русской землей». Обороняюсь от наскоков Милия. Он так гневается, что, того и гляди, в порошок меня сотрет. Каково химической кафедре, ежели ее начальник станет жить в сыпучем состоянии?
Стасов, наш неистовый Бах, совсем расстроен. Правда, я ему позолотил пилюлю, постарался смягчить удар.
Принес в кружок новый романс. Вещь хорошая. Много огня, блеску, мелодичности. Опять молодец барышня Пургольд, опять надо кланяться и благодарить. Ведь каждую мою новую штуку замечательно поет. Получаю такое наслаждение, будто это не Бородин, а она, душенька Сашенька, насочиняла. Простите-извините, сочинял все-таки я. И не одну только музыку, но, по своему обыкновению, и словеса. Да-с. Эта штука, «морская баллада» моя, ценится теперь нашими крайне высоко. Балакирев и Кюи в восторге, Бах просто с ума сходит. Вот я ему «Море» и посвятил. Что тут восторгов было! Вообще кружок наш как-то опять забурлил, Милий воспрял духом… Только ведь у всех уж свои крылья отросли. Всякому на свою дорогу хочется.
Персона моя последнее время в большой моде. То ко мне налетают «все народы», то зовут наперерыв к себе. Не идешь — думают: «Вот господин, пресыщенный обществом». Что значит пребывать большую часть жизни соломенным вдовцом! — так и видят в тебе прожигателя жизни, бонвивана. А мне бы попросту соснуть часок лишний. Впрочем, сегодня непременно иду к Пургольдам. Там поют насквозь всего «Каменного гостя». Интересно.
К ЕКАТЕРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ БОРОДИНОЙ
6 мая 1870 года.
«…К Корсиньке я попал рано утром… Корсинька живет теперь один, нанимает комнатку за 11 рублей. Он обрадовался мне неописанно. Велел тотчас же поставить самовар и начал сам чайничать, и преуморительно: длинный, в партикулярной жилетке, неловкий и весь сияющий от радости, он размахивал руками, кричал, заваривал чай, раздувал самовар и наливал. Умора! Мне ужасно жаль, что ты не могла его видеть…
Потом я ему наигрывал новую симфоническую вещь, которую я теперь стряпаю (ту, что наигрывал тебе в Москве). Кореец неистовствовал и говорил, что это самая сильная и лучшая из всех вещей. Так кричал и размахивал руками! Оттопыривал нижнюю губу, мигал и подыгрывал то бас, то дискант. Кроме того, мы еще кое-что посмотрели. От него думал отправиться в час. Только слышу — бьют часы… Считаю — раз, два, три, четыре!
Это с половины десятого-то! А между музыкою мы не забывали пропускать чаи и усидели вдвоем — два самовара! Я давно так всласть не музицировал и не пил так много чаю…
У нас все по-старому. «Тетушка» невольно поддалась гибельному направлению, влекущему женщин в бездну, — т. е. изучает медицину. Постоянно застаю ее читающей: то Курс Акушерства, то Специальную Патологию, то Хирургию, то Гигиену, то Судебную Медицину. Вот-те и прогресс! Как есть передовая женщина! И очки, и волосы стриженые, и медицинские книжки читает!»
ОТ АВТОРА
Получить высшее образование, жить своим трудом — эта возможность долго оставалась «запретным плодом» для русских женщин. Учительство и врачевание — вот те сферы, где они прежде всего желали приносить пользу. Между тем газеты всерьез обсуждали проблемы: «Могут ли женщины быть врачами?», «Могут ли девицы посещать публичные лекции по физиологии и прилично ли это?». Пока шли дебаты, отважные одиночки уезжали учиться в Швейцарию. Однако, вернувшись на родину, не находили работы. Передовая профессура решила добиваться открытия особых женских курсов.
МЕНДЕЛЕЕВ
Нынче заседал наш комитет. Дамы-учредительницы затевают серьезное дело. Боюсь, однако, что министр струсит, дойдет до государя, а тот уж, конечно, не разрешит никаких женских университетов. Только и слышишь отовсюду: «Помилуйте, женское предназначение быть матерью!» Ну и отлично. Но отчего же не быть образованной матерью? Я не о танцах да языках говорю. Я говорю о настоящем образовании. Что за пошлость, что за глупость все эти рассуждения о «приличиях», о том, что-де «женский ум не в состоянии объять» и прочее. Да с их терпением, с их тонкостью, душою каких еще врачей образуем! Силы собираются значительные. Сорок три профессора! Правда, с самого начала есть одно большое препятствие. «На какие деньги, — спрашиваю, — предполагаете вы учредить целый университет?» — «Надеяться можем только на плату за обучение».