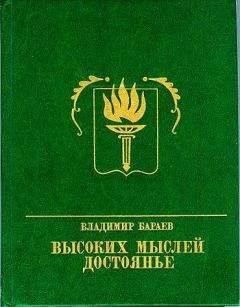— Ну уж, — хмыкнул Шишлов, — нехристи, басурмане!
— У них своя вера — поклоняются духам предков, животным, а многие сейчас принимают нашу веру…
— На Ангаре среди крещеных бурят полно шаманов, — перебил Шишлов, — какие из них христиане, если они после церкви камланье под бубен слушают?
— Буряты веками были шаманистами, сразу отвыкнуть трудно.
— То-то и оно! Так что не ровня нам эти ошарашки! Бестужев передернулся при этих словах, но сдержался.
— Отчего ты считаешь себя выше?
— Да я вольный казак, на передовом рубеже Расею от басурманов охраняю!
— Ты вольный казак? Да Мяльянга в тыщу раз свободнее тебя! Да и сколько инородцев теперь в казачьем войске..
— Какие это казаки, — упирался Шишлов, — унтовое войско, и то без году неделя.
— Известно ли тебе, что слово «казак» степного происхождения? Знаешь ли ты, что Селенгинский полк, в котором сражались и буряты, еще на Бородинском поле за Русь стоял?
— Не-ет, — удивленно протянул Шишлов.
— А откуда разные веры? — спросил Митрофан. Мы вот Лунина хоронили, священник неправославный был.
— Католик. А веры разные потому, что всяк народ своего бога имеет. Монголы, китайцы — Будду, татары, турки — Аллаха, но и в одной вере бывают разные обряды, молятся по-разному.
— Много разного люда в Расее, — неожиданно поддержал Пьянков, — и для всех она — Русь-матушка.
— Кому мать, а кому мачеха, — вдруг сказал семейский парень. — Никого так по Расее не гоняли, как нас, староверов, коренных россиян. И царь, и Никон. А сколько в гари погибло, когда мы сами себя жгли. Токо за Байкалом и нашли покой…
Разговор занимался, как костер, вовлекая все новых собеседников, и это радовало Бестужева.
— Говорить с вами интересно. — сказал он, — но что-то ни разу не слышал у вас несен.
— До песен ли? — вздохнул Пьянков. — Не плавание — каторга.
— А может, с песнями и работа лучше пойдет?
— Да нет у нас певцов.
— А в Бянкине кто пел? — спросил Бестужев.
— То не наши, а я и не помню, когда пел, — сказал Митрофан.
— А вот эту знаешь? — Бестужев запел глуховатым голосом.
Сосватал я себе неволю,
Мой жребий — слезы и тоска…
— Так это ж «Узник», как не знать, — ответил Митрофан. — Токо начинается не так.
— Вот и давай, — поймал его на слове Бестужев, тот замялся, а рабочие начали просить Мнтрофана, давай, мол, чего уж там. Тот поежился, потом махнул рукой и хрипло запел:
Не слышно шума городского,
За Невской башней тишина…
Его поддержали сначала Бестужев, потом и другие.
Прости, отчизна, край любезный!
Прости, мой дом, моя семья!
Здесь за решеткою железной
Навек от вас сокрылся я.
Песня закончилась, все молчали. Митрофан задумчиво глядел в огонь, смущаясь, что решился петь, но никто не шутил, все задумались, вспоминая свое заточение.
— Славно спели, — улыбнулся Бестужев, — Ну, отдыхайте, а я пойду.
Сняв с мели последнюю баржу, наутро тронулись в путь. Амур стал так широк, что трудно было понять, где берега, а где острова. Но пейзажи утомительно однообразны. Павел и Чурин говорили, что на Ингоде и Шилке гораздо красивее.
— И мне Амур пока не глянется, — согласился Бестужев. — Чего ждал, того не увидел.
Тут Мальянга обернулся и сказал, что снизу идет пароход. Все прислушались, но ничего не услышали.
— Почудилось, Мальянга, — решил Чурин.
— Твоя уши нет, слушай шибче.
И действительно, вскоре за поворотом над деревьями показался черный дым, а затем и пароход. Это было небольшое речное судно, саженей пятнадцать длиной. Бестужев глянул в подзорную трубу и узнал, что это «Лена». Когда пароход приблизился, оттуда крикнули в рупор, нет ли здесь адмирала Бестужева.
— Плывите вниз, я вас догоню, — Бестужев спустился в оморочку, подплыл к пароходу, который пришвартовался к острову. Двое морских офицеров помогли Бестужеву подняться по веревочной лестнице и представились один за другим:
— Капитан третьего ранга Назимов!
— Капитан-лейтенант Купреянов!
— До чего похожи на своих отцов! — улыбнулся Бестужев. — Я знал их еще по Кронштадту. Вот вас, — обратился он к Назимову, — держал на руках, когда вам было три года. А с вашим отцом, — повернулся он к Купреянову, — учился в Морском корпусе…
Изумлению офицеров не было предела, и они с особым почтением пожали руку давнему другу своих отцов, который вполне мог бы стать действительным адмиралом или занять пост, какой доверен отцу Купреянова Ивану Антоновичу — главному правителю Российско-Американской компании.
Капитан «Лены» Сухомлин приказал матросам сойти на берег, чтобы напилить и нарубить дров, а потом сказал Бестужеву, что генерал-губернатор в Усть-Зее гневается из-за задержки каравана. Бестужев ответил, что Кукель с Раевским, наверное, уже там и объяснили причины опоздания. Тут мимо парохода начали проходить пьянковские баржи.
— Вот еще одна эскадра моей флотилии, — усмехнулся он. — Мне хотелось бы отправить с вами письмо.
Сухомлин дал перо и бумагу, Бестужев начал писать.
«Мои дорогие сестры, мой друг Мери, милые птенцы!
Пользуясь неожиданной оказией, спешу сообщить вам, что мое плавание или, лучше сказать, моисеево хождение посуху, задерживается из-за множества мелей. Письма ваши, милые сестры и Мери, несказанно обрадовали меня. Хорошо, что Леля выздоровела и Коля здоров. Еще раз прошу вас, живите в мире и согласии. Обнимаю и целую всех вас, без изъятия.
Вас истинно любящий
М. Бестужев».
Запечатав письмо, он обнял Назимова и Купреянова, попрощался с Сухомлиным и спустился в лодку. Они стояли у борта до тех пор, пока Бестужев не скрылся за поворотом.
После встречи с ними он думал, что и у него могли бы быть такие же взрослые сыновья, как эти капитаны. Яков Купреянов ехал в Сретенск, чтобы привести оттуда пароход «Аргупь», а Николай Назимов — в Кронштадт, чтобы принять под свое командование военный корвет «Оливуца».
Последний раз Бестужев видел отца Назимова весной 1825 года, когда приезжал в Кронштадт с Рылеевым и братом Николаем. Тогда Мишель уже был штабс-капитаном Московского полка. Собственно, перевод из Кронштадта в Петербург, а точнее, из флота в армию, и был поворотным пунктом в его судьбе. Решение о переходе созрело не сразу.