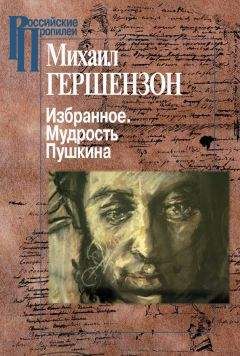Мы представляем собою, как я только что заметил, продукт религиозного начала; это несомненно, но это не все. Не надо забывать, что это начало бывает действительно плодотворно лишь тогда, когда оно вполне независимо от светской власти, когда место, откуда оно осуществляет свое действие на народ, находится в области недосягаемой для властей земных. Так было в древнем Египте, на всем Востоке, особенно в Индии, и наконец, в Западной Европе. У нас, к несчастью, дело обстояло иначе. При всем глубоком почтении, с которым наши государи относились к духовенству и христианским догматам, духовная власть далеко не пользовалась в нашем обществе всей полнотою своих естественных прав. Чтобы понять это явление, необходимо подняться мысленно к той эпохе, когда только складывался строй нашей церкви, то есть к Константину Великому. Всякий знает, что принятие христианства этим монархом как государственной религии, было колоссальным политическим фактом, но, как мне кажется, вообще недостаточно ясно представляют себе влияние, которое оно оказало на самую религию. Нет никакого сомнения, что печать, наложенная этой революцией на церковь, оказалась бы для нее скорее пагубной, чем благотворной, если бы, по счастью, Константину не вздумалось перенести резиденцию правительства в новый Рим, что избавило старый от докучного присутствия государя. В эту эпоху римская империя представляла собою уже не республиканскую монархию первых цезарей, а восточный деспотизм, созданный Диоклетианом и упроченный Константином. Поэтому императоры скоро сосредоточили в своих руках высшую власть духовную, также как и светскую. Они смотрели на себя как на вселенских епископов, поставили свой трон в алтаре, председательствовали на церковных соборах, называли себя апостольскими и, наконец, как сообщает нам историк Сократ, присвоили себе полновластие в религиозных делах и невозбранно распоряжались на самых больших соборах. По словам св. Афанасия, Констанций говорил собравшимся вокруг него епископам: «то, чего я хочу, должно считаться законом церкви», и вы, конечно, знаете, что на Константинопольском соборе Феодосий Великий был приветствован титулом первосвященника. Таков был путь, которым шла императорская власть в первом веке христианской церкви. А в это самое время и в виду этих вторжений светской власти в духовную сферу, западная церковь, благодаря своей отдаленности от императорской резиденции, организуется вполне независимо, ее епископы простирают свою власть даже на светский быт, и римский патриарх, опираясь на престиж, какой сообщали ему этот высокий сан, кровь мучеников, которою пропитана почва вечного города, преемственная связь со старшим из апостолов, память о другом великом апостоле и, в особенности, присущая христианскому миру потребность в средоточии и символе единства, мало-помалу достигает той мощи, которая потом вступит в единоборство с империей и одолеет ее. Я знаю, среди ваших мыслителей эту победу одобряли только немногие, но мы, беспристрастные свидетели в этом деле, можем оценить ее лучше вашего; мы, неуклонно следующие по стопам Византии, слишком хорошо знаем, что представляет собою духовная власть, отданная на произвол земных владык. Я только что упомянул Феодосия Великого. Этот самый Феодосий, которого в Константинополе провозглашали первосвященником, – вы знаете, как сурово обошелся с ним св. Амвросий в Милане; и надо прибавить, что последний, запретив императору вход в церковь, не удовольствовался этим, но велел также вынести из храма императорский престол. Это, на мой взгляд, как нельзя лучше обрисовывает характер той и другой церкви: здесь мы видим духовенство, одушевленное глубоким чувством независимости, стремящееся поставить духовную власть выше силы, там – церковь самое покорную материальной власти и домогающуюся стать как бы христианским халифатом.
Таково наследие, которое мы получили от Византии вместе с полнотою догмы и ее первоначальной чистотой. Эта чистота, без сомнения, – неоценимое благо, и она должна утешать нас во всех недостатках нашего духовного строя; но у нас идет речь сейчас только о нашем социальном развитии, и вы согласитесь, что западный религиозный строй гораздо более благоприятствовал такого рода развитию, нежели тот, который выпал на нашу долю. Надо все время помнить одно – что в нашем обществе не существовало никакого другого нравственного начала, кроме религиозной идеи, так что ей одной обязан наш народ своим историческим воспитанием и ей должно быть приписано все, что у нас есть, – доброе, как и злое. Итак, возвращаясь к нашему предмету, мы видим воочию, что эта наша готовность подчиняться разнородным предначертаниям извне есть неизбежное последствие религиозного строя, лишенного свободы, где нравственная мысль сохранила лишь видимость своего достоинства, где ее чтут лишь под условием, чтобы она держалась смирно, где она пользуется авторитетом лишь в той мере, в какой его уделяет ей политическая власть, где, наконец, ее беспрестанно стесняют в деятельности ее служителей, в ее движениях и духе. Не знаю, согласитесь ли вы со мною, но мне кажется, что этим способом очень легко можно объяснить всю нашу историю. Народ простодушный и добрый, чьи первые шаги на социальном поприще были отмечены тем знаменитым отречением в пользу чужого народа, о котором так наивно повествуют наши летописцы, – этот народ, говорю я, принял высокие евангельские учения в их первоначальной форме, то есть раньше, чем в силу развития христианского общества они приобрели социальный характер, задаток которого был присущ им с самого начала, но который и должен был, и мог обнаружиться лишь в урочное время. Ясно, что нравственная идея христианства должна была оказать на этот народ только самое непосредственное свое действие, то есть до чрезвычайности усилить в нем аскетический элемент, оставляя втуне все остальные начала, заключенные в ней, – начала развития, прогресса и будущности. Христианская догма, как плод Высшего Разума, не подлежит ни развитию, ни совершенствованию, но она допускает бесчисленные применения в зависимости от условий национальной жизни. Известно, какие громадные явления, какие неизмеримые последствия породила жизнь западных народов, оплодотворенная христианством. Но это было возможно лишь потому, что эта жизнь, сама исполненная всевозможных плодоносных элементов, не была скована узким спиритуализмом, что она находила покровительство, сочувствие и свободу там, где у нас жизнь встречала лишь монастырскую суровость и рабское повиновение интересам государя. Не удивительно, что мы шли от отречения к отречению. Вся наша социальная эволюция – сплошной ряд таких фактов. Вы слишком хорошо знаете нашу историю, чтобы мне надо было перечислять их; довольно указать вам на колоссальный факт постепенного закрепощения нашего крестьянства, представляющий собою не что иное, как строго-логическое следствие нашей истории. Рабство всюду имело один источник: завоевание. У нас не было ничего подобного. В один прекрасный день одна часть народа очутилась в рабстве у другой просто в силу вещей, вследствие настоятельной потребности страны, вследствие непреложного хода общественного развития, без злоупотреблений с одной стороны и без протеста с другой. Заметьте, что это вопиющее дело завершилось как раз в эпоху наибольшего могущества церкви, в тот памятный период патриаршества, когда глава церкви одну минуту делил престол с государем. Можно ли ожидать, чтобы при таком беспримерном в истории социальном развитии, где с самого начала все направлено к порабощению личности и мысли, народный ум сумел свергнуть иго вашей культуры, вашего просвещения и авторитета? Это немыслимо. Час нашего освобождения, стало быть, еще далек. Вся работа новой школы будет бесплодна до тех пор, пока наша ретроспективная точка зрения не изменится совершенно. Конечно, наука могущественна в наши дни; судьбы обществ в значительной степени зависят от нее – но она действительно может влиять на народ лишь в том случае, когда она в области социальных идей оперирует так же беспристрастно и безлично, как она это делает в сфере чистого мышления. Только тогда ее формулы и теории способны действительно стать выражением законов социальной жизни и влиять на нее, как в естественных науках они постоянно выражают законы природы и дают средства влиять на нее. Я уверен, придет время, когда мы сумеем так понять наше прошлое, чтобы извлекать из него плодотворные выводы для нашего будущего, а пока нам следует довольствоваться простой оценкой фактов, не силясь определить их роль и место в деле созидания наших будущих судеб. Мы будем истинно свободны от влияния чужеземных идей лишь с того дня, когда вполне уразумеем пройденный нами путь, когда из наших уст помимо нашей воли вырвется признание во всех наших заблуждениях, во всех ошибках нашего прошлого, когда из наших недр исторгнется крик раскаяния и скорби, отзвук которого наполнит мир. Тогда мы естественно займем свое место среди народов, которым предназначено действовать в человечестве не только в качестве таранов или дубин, но и в качестве идей. И не думайте, что нам еще очень долго ждать этой минуты. В недрах этой самой новой школы, которая силится воскресить прошлое, уже не один светлый ум и не одна честная душа вынуждены были признать тот или другой грех наших отцов. Мужественное изучение нашей истории неизбежно приведет нас к неожиданным открытиям, которые прольют новый свет на нашу протекшую жизнь; мы научимся, наконец, знать не то, что у нас было, а то, чего нам не хватало, не что надо вернуть из былого, а что из него следует уничтожить. Ничто не может быть благодатнее того направления, которое приняла теперь наша умственная жизнь. Благодаря ему огромное число фактов воскрешено из забвения, интереснейшие эпохи нашей истории воссозданы вполне, и в ту минуту, когда я пишу вам, готовится к выходу в свет крупный труд подобного рода. С другой стороны, воззрение, противоположное национальной школе, также принуждено заняться серьезными изысканиями в исторической области и исходя из совершенно иной точки зрения, оно приходит к результатам не менее непредвиденным. Нельзя отрицать: бесстрашие, с которым оба воззрения исследуют свой предмет, делает честь нашему времени и подает добрые надежды на будущее, когда наш язык и ум будут свободнее, когда они уже не будут, как всегда до сих пор, скованы путами лицемерного молчания. Столь часто повторяемое теперь сравнение нашей исторической жизни с исторической жизнью других народов показывает нам на каждом шагу, как резко мы отличаемся от них. Позже мы узнаем, можно ли народу так обособиться от остального мира и должен ли он считаться частью исторического человечества, раз он может предъявить последнему только несколько страниц географии. Если мне удалось выяснить те две идеи, которые делят между собою теперь наше мыслящее общество, я доволен, и вы можете видеть, что я продолжаю по-прежнему откровенно выражать мою мысль о моей родной стране. В эпоху, когда смерть и возрождение народов занимают столько умов, нельзя, мне кажется, лучше уяснить своей стране ее собственную национальность, как изобразив ее пред всем миром, пред глазами иностранцев и соотечественников, такою, какою она представляется нам самим. Тогда всякий может поправить нас, если мы ошиблись.