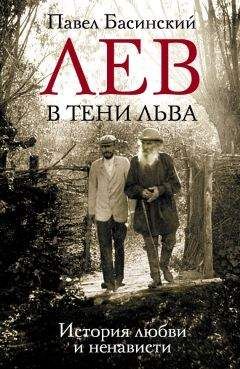Через несколько дней я осознала, что мой отъезд не побудит отца уехать, как я надеялась, он решил терпеть до конца. В дневнике он писал: «Только бы перед Богом быть чистым. И сейчас сознаешь радость жизни… Молился хорошо: Господи, Владыко живота моего и Царю Небесный».
Матери был очень неприятен мой отъезд, ей хотелось примириться со мной, взять Варю обратно.
«Со мной была трогательна тем, — записал отец 29 сентября, — что благодарила меня за ласковость с ней. Страшно, а хочется думать, что и ее (С. А.) можно победить добром».
В дневнике для одного себя отец писал 2 октября:
«С утра первое слово о своем здоровье, потом осуждение и разговоры без конца, и вмешательство в разговор. И я плох. Не могу победить чувства нехорошего, недоброго. Нынче живо почувствовал потребность художественной работы и вижу невозможность отдаться ей от нее (С. А.), от неотвязного чувства о ней, от борьбы внутренней. Разумеется, борьба эта и возможность победы в этой борьбе важнее всех возможных художественных произведений».
В маленьком моем домике, где было, в сущности, очень уютно, я не находила себе места. Все мои мысли и чувства были в Ясной Поляне.
— Что ты пригорюнилась, ходишь точно сама не своя? — говорила мне моя кума Аннушка, широкоскулая, курносая, веселая яснополянская баба, которая помогала по дому. — Я никогда не грущу. Напьется ли мой Никита, али кто из ребят захворает, я сажусь Марк Аврелия читать… — Что? Марка Аврелия? — спросила я ее с удивлением, — Ну да, Марк Аврелия, книжечка такая есть, граф мне дал. Как затоскую, сейчас старшего Петьку кличу: «Петька! Читай мне Марк Аврелия!» Сразу на душе полегчает… А вот еще, — продолжала она свою философию, — много я думала, как лучше жить. И так прикину, и эдак, ничего не помогает. Одно только мне помогает: о смерти думать. Как начнешь о смерти думать, что вот ты нынче жив, а завтра тебе три аршина земли только нужно, и все заботы отойдут, не нужно тебе ничего. Только о том и думаешь, как бы мне сейчас не согрешить.
Я рассказала отцу про свою куму.
«Вот мудрость–то где настоящая, — сказал он смеясь, стараясь скрыть слезы умиления, — вот у кого учиться надо».
В Ясную Поляну приехали Сережа и Таня. Мой отъезд подействовал на них и они твердо заявили матери, что если она не перестанет мучить отца, они возьмут ее под опеку и отправят в санаторию. «Давно пора», — думала я.
Вечером 3 октября приехал кучер из Ясной Поляны с запиской от Булгакова: «Льву Николаевичу очень плохо, приезжайте скорей». У отца был глубокий обморок, все тело сотрясалось от судорог в ногах. Все бегали, суетились, мать на коленях ломала себе руки, причитала: «Господи, только бы не на этот раз… Господи, помоги»…
Чертков, изгнанный моей матерью из дома, сидел внизу, в комнате Душана. К одиннадцати часам отцу стало лучше. Тихо, на цыпочках, я подошла к нему, поцеловала его руку. К ночи он заснул и на утро все прошло, вернулось полное сознание, но он сильно ослабел.
Приехали Таня и Сережа, говорили с матерью. И в первый раз, я, присоединившись к разговору, прямо, при старших, сказала матери, все, что отец пережил. Я говорила резко, без прикрас, я предупреждала, что если мать не уедет или не переменится — отец не выдержит, умрет… И тогда. — Кто будет виноват?..
Сережа пробовал остановить меня, но это было невозможно. Я должна была излить свои страдания за последние месяцы. «Вы и трех дней не выдерживаете этого, вам тяжело… а я». Кончилось тем, что я расплакалась и убежала.
Я уехала домой завтракать и к вечеру снова вернулась к отцу. Когда поздно вечером я собралась уезжать, Илья Васильевич мне сказал, что «графиня меня желает видеть».
— Где она?
— На крыльце.
Моя мать стояла у двери в одном платье. Голова ее беспомощно тряслась. Мне вдруг стало ее ужасно жалко, хотелось броситься к ней на шею, но я сдержалась.
— Ты хотела говорить со мной? — спросила я.
— Да, я хотела сделать еще один шаг к примирению. Прости меня. — Она стала целовать меня, повторяя; «прости, прости». Я тоже стала ее целовать, прося успокоиться,
— Прости меня, прости, я тебе даю честное слово, что больше никогда не буду оскорблять тебя, — повторяла она крестясь и целуя меня. — Скажи Варе, что я извиняюсь перед ней, что мы с ней жили четыре года и Бог даст еще столько же проживем, я не знаю, что со мной, с нами сделалось.
— Меня не оскорбляй, но и отца тоже, — сказала я, сама заливаясь слезами. — Не надо его обижать, я не могу видеть, как он измучился.
— Не буду, не буду, я тебе даю честное слово, — все повторяла она крестясь, — его не буду мучить. Ты не поверишь, как я измучилась этой ночью, я ведь знаю, что он болен был от меня, и я никогда не простила бы себе, если бы он умер… Ты не поверишь, как я ревную, — говорила она, — я никогда в жизни, в молодости даже не чувствовала такой сильной ревности, как теперь к Черткову.
Жалость к ней сжимала мое сердце…
Снова затеплилась надежда. Мы с Варей немедленно вернулись в Ясную Поляну. Несколько дней было тише. Я изо всех сил старалась сохранить то доброе, размягченное чувство, которое проснулось во мне после этого разговора.
«Вчера 6 октября, — писал отец, — был слаб и мрачен. Все было тяжело и неприятно. От Черткова письмо… Она старается и просила его приехать. Сегодня Таня ездила к Чертковым. Галя очень раздражена. Чертков решил приехать в 8, теперь без 10 минут. С. А. просила, чтобы я не целовался с ним. Как противно. Был истерический припадок. — Нынче 8-ое. Я высказал ей все то, что считал нужным. Она возражала, и я раздражился. И это было дурно. Но, может быть, все–таки что–нибудь останется. Правда, что все дело в том, чтобы самому не поступить дурно, но и ее, не всегда, но большею частью искренно жалко. Ложусь спать, проведя день лучше».
Числа 12 октября снова возобновились разговоры о завещании. То, что мать рассказывала всем окружающим в связи с обмороком отца, было так ужасно, что не хотелось бы подробно на этом останавливаться. Она говорила, что если отец написал завещание, его можно будет опротестовать, доказав, что у отца слабоумие. Она то и дело вбегала в его комнату, становилась на колени, укоряла его, угрожала, умоляла его уничтожить завещание, целовала его руки.
13 октября отец записал;
«Оказывается она нашла и унесла мой дневник маленький. Она знает про какое–то, кому–то, о чем–то завещание — очевидно, касающееся моих сочинений… Какая мука из–за денежной стоимости их — и боится, что я помешаю ее изданию. И всего боится, несчастная».
14‑го октября мать написала отцу письмо:
«Ты каждый день меня как будто участливо спрашиваешь о здоровье, о том, как я спала, а с каждым днем новые удары, которыми сжигается мое сердце, которые сокращают мою жизнь и невыносимо мучают меня, и не могут прекратить моих страданий. Этот новый удар, злой поступок относительно лишения авторских прав твоего многочисленного потомства, судьбе угодно было мне открыть, хотя сообщник в этом деле и не велел тебе его сообщать мне и семье. Он грозил мне напакостить, мне и семье, и блестяще это исполнил, выманив бумагу от тебя с отказом. Правительство, которое во всех брошюрах вы с ним всячески бранили и отрицали будет по закону отнимать у наследников последний кусок хлеба и передавать его Сытиным и разным богатым типографиям и аферистам, в то время, как внуки Толстого, по его злой и тщеславной воле, будут умирать с голода. Правительство же, Государственный банк хранит от жены Толстого его дневники. Христианская любовь последовательно убивает разными поступками самого близкого (не в твоем, а в моем смысле) человека — жену, со стороны которой во все время поступков злых не было никогда и теперь, кроме самых острых страданий, тоже нет. Надо мною же висят и теперь разные–угрозы. И вот, Лёвочка, ты ходишь молиться на прогулке, помолясь, подумай хорошенько о том, что ты делаешь под давлением этого злодея, потуши зло, открой свое сердце, пробуди любовь и добро, а не злобу и дурные поступки, и тщеславную гордость (по поводу своих авторских прав), ненависть ко мне, к человеку, который любя отдал тебе всю жизнь и любовь. — Если тебе внушено, что мною руководит корысть, то я лично официально готова, как дочь Таня, отказаться от прав наследства мужа. На что мне? Я очевидно скоро так или иначе уйду из этой жизни. Меня берет ужас, если я переживу тебя, какое может возникнуть зло на твоей могиле и в памяти детей и внуков.