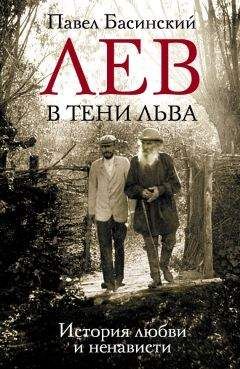Я рассказала отцу, как один раз Иван–кучер вез Ольгу, она спросила его, что делается в Ясной. Он ответил, что плохо, А потом обернулся к ней и сказал: — «А что, ваше сиятельство, у нас по–деревенски если баба задурит, муж ее вожжами, — шелковая сделается».
Отец стал еще больше смеяться. «Да, да, вот поди ты, какие бывают…». — «Да это по–моему и не противоречие, — перебила я его, — а только у них вожжи настоящие, веревочные, а у нас должны быть вожжи нравственные». — «Да, да. А я, должно быть, все–таки уеду», — повторил он.
В дневнике для одного себя от 21 октября он записал: «Очень тяжело несу свое испытание. Слова Новикова: «походил кнутом. Много лучше стала», и Ивана: «в нашем быту вожжами», все вспоминаются, и недоволен собой. Ночью думал об отъезде. Саша много говорила с ней, а я с трудом удерживаю недоброе чувство».
24 октября отец продиктовал мне письмо Михаилу Новикову.
24 октября 1910 г.
«Ясная Поляна.
Михаил Петрович,
В связи с тем, что я говорил вам перед вашим уходом, обращаюсь к вам еще с следующей просьбой: если бы действительно случилось то, чтобы я приехал к вам, то не могли бы вы найти мне у вас в деревне хотя бы самую маленькую, но отдельную и теплую хату, так что вас с семьей я бы стеснял самое короткое время. Еще сообщаю вам то, что если бы мне пришлось телеграфировать вам, то я телеграфировал бы вам не от своего имени, а от Т. Николаева.
Буду ждать вашего ответа, дружески жму руку.
Имейте в виду, что все это должно быть известно только вам одним».
Отец не мог работать, не мог сосредоточиться, мысли перебивались, покой нарушался постоянными разговорами, ночью, днем, во время занятий.
25 октября 1910 г. — Вошла к отцу. Он сидел на кресле у стола, ничего не делая. Как–то странно–непривычно было видеть его без книги, без пера, или даже пасьянса, который он любил раскладывать, когда думал. — «Я сижу и мечтаю, — сказал он мне, — мечтаю о том, как уйду. Ты ведь захочешь идти непременно со мной?» — спросил отец. — «Да я не хотела бы тебя стеснять, может быть, первое время, чтобы тебе легче было уйти, не пошла бы с тобой, а вообще жить врозь с тобой я не могу». — «Да, да, но ты знаешь что я все думаю, что ты для этого недостаточно здорова, насморки, кашель начнется»… — «Нет, нет, это ничего. Мне будет лучше в простой обстановке». — «Ежели так, то мне самое естественное, самое приятное иметь тебя около себя, как помощницу. Я думаю сделать так. Взять билет до Москвы, кого–нибудь, Черткова, послать с вещами в Лаптево и самому там слезть. А если там откроют, еще куда–нибудь поеду. Ну, да это наверное все мечты, я буду мучиться, если брошу ее, меня будет мучить ее состояние… А с другой стороны, так делается тяжела эта обстановка, с каждым днем все тяжелее. Я, признаюсь тебе, жду только какого–нибудь повода, чтобы уйти».
25 октября приехал Сережа.
Вот что пишет брат Сергей об этом посещении:
«25 октября вечером я приехал в Ясную из Тулы. Никого посторонних не было; были только моя мать, сестра Саша, Душан Петрович и Варвара Михайловна. Я пошел в кабинет к отцу, думая, что он хочет со мною поговорить о матери, а может быть и о моих делах. Но мать все время была тут же и все время говорила без умолку. Он начнет говорить, а она его перебивает, говоря совсем о другом. Он умолкал, ждал, когда она даст ему возможность вставить слово, и тогда продолжал говорить о том, о чем начал. Точно его перебивал посторонний шум».
В этот вечер Сережа разговаривал с отцом о литературе, играл с ним в шахматы и по его просьбе играл на фортепиано.
«Когда я сыграл «Ich liebe dich» Грига, — пишет С. Л. Толстой, — он всхлипнул. Уходя спать, я пошел в кабинет прощаться с ним. Кроме нас, никого в комнате не было. Он спросил меня: «Почему ты скоро уезжаешь?» Я собирался уезжать рано утром на следующий день. Я сказал, что мне надо устроить свои дела. Я очень хотел пожить в Ясной некоторое время, несколько разобраться в том, что там происходило и, может быть, помочь. Но мне сперва хотелось уладить свои личные дела… Как мне теперь кажутся ничтожными эти дела. — Отец на это сказал: «А ты бы не уезжал». Я ответил, что скоро опять приеду. Впоследствии я вспомнил, что он сказал эти слова с особенным выражением; он, очевидно, думал о своем отъезде и хотел, чтобы я после его отъезда оставался при матери. Он всегда думал, что я могу несколько влиять на нее. Прощаясь, он торопливо и необычно нежно притянул меня к себе с тем, чтобы со мной поцеловаться. В другое время он просто подал бы мне руку».
И 26‑го же отец писал Черткову:
«Нынче в первый раз почувствовал с особенной ясностью — до грусти — как мне недостает вас… Есть целая область мыслей, чувств, которыми я ни с кем иным не могу так естественно делиться, — зная, что я вполне понят, — как с вами. Нынче было таких несколько мыслей–чувств. Одна из них о том, нынче во сне испытал толчок сердца, который разбудил меня и, проснувшись, вспомнил длинный сон, как я шел под гору, держался за ветки и все–таки поскользнулся и упал, — т. е. проснулся. Все сновидение, казавшееся прошедшим, возникло мгновенно, так одна мысль о том, что в минуту смерти будет этот, подобный толчку сердца в сонном состоянии, момент вневременный, и вся жизнь будет этим ретроспективным сновидением. Теперь же ты в самом разгаре этого ретроспективного сновидения. — Иногда мне это кажется верным, а иногда кажется чепухой. Вторая мысль — чувство это, опять–таки нынче виденное мною, уже третье в эти последние два месяца художественное, прелестное, нынешнее, художественное сновидение. Постараюсь записать его и предшествующие хотя бы в виде конспектов. Третье, это уже не столько мысль, сколько чувство, и дурное чувство–желание перемены своего положения. Я чувствую что–то не должное, постыдное в своем положении, и иногда смотрю на него — как и должно — как на благо, а иногда противлюсь, возмущаюсь. Саша сказала вам про мой план, который иногда в слабые минуты обдумываю. Сделайте, чтобы слова Саши об этом и мое теперь о них упоминание, были бы comme non avenu (как не бывшие). Очень вы мне недостаете. На бумаге всего не расскажешь. Ну хоть что–нибудь. Я пишу вам о себе. Пишите и вы о себе и как попало. Как вы поймете меня с намека, так и я вас. Ну, до свиданья. Если что–нибудь предприму, то, разумеется, извещу вас. Даже, может быть, потребую от вас помощи. Л. Т.».
26 октября отец ездил к старушке Шмидт. Может быть, он ездил к ней прощаться.
«Я уеду к Тане, напишу ей, что уеду к Тане, а оттуда уеду в Оптину Пустынь, приду к какому–нибудь старцу и попрошу позволения жить там. Они верно меня примут, будут надеяться обратить меня», — сказал он Душану 5.
26 октября он записал:
«Ничего особенного не было. Только росло чувство стыда и потребности предпринять».