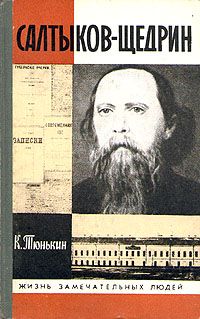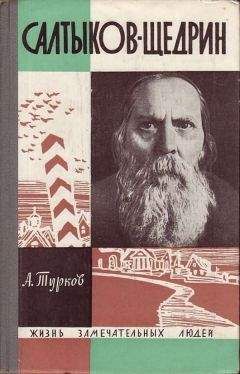Жизнь детей подвержена случайности и подчинена «системе». Особенно злостными оказываются последствия, которые влечет за собой «система». В подтексте этого высказывания лежат воспоминания уже не о деревенском детстве, а о годах детства, отрочества, юности, проведенных в стенах казенных учебных заведений — Дворянского института и лицея. Образы носителей пагубной воспитательной системы часто в разной связи выходили на страницы салтыковских произведений преподносящими своим подопечным массу «кратких наук». Очень может быть, что, всматриваясь в «даль» писавшейся им хроники, Салтыков надеялся собрать эти фрагменты и отрывки в цельную картину, подобную картине провинциального Пошехонья. Но сил для этого уже не оставалось.
Здесь же, в главе о «детском вопросе», Салтыков высказался о «системе» прямо и недвусмысленно — публицистически (кстати, именно этих страниц испугались Соболевский и Гайдебуров).
Под гнетущим нивелирующим, стирающим самобытность личности воздействием «системы» (в «Мелочах жизни» Салтыков назвал это «циркуляром») «детская жизнь подтачивается в самом корне, подтачивается безвозвратно и неисправимо, потому что на помощь системе являются мастера своего дела — педагоги, которые служат ей не только за страх, но и за совесть.
В согласность ее требованиям, они ломают природу ребенка, погружают его душу вмрак, и ежели не всегда с полною откровенностью ратуют в пользу полного водворения невежества, то потому только, что у них есть подходящее средство обойти эту слишком крайнюю меру общественного спасения и заменить ее другою, не столь резко возмущающею человеческую совесть, но столь же действительною. Средство это... заключается в замене действительного знания массою бесполезностей, которыми издревле торгует педагогика.
Спрашивается: что могут дети противопоставить этим попыткам искалечить их жизнь? Увы! подавленные игом фатализма, они не только не дают никакого отпора, но сами идут навстречу своему злополучию и безропотно принимают удары, сыплющиеся на них со всех сторон. Бедные, злосчастные дети!.. Нет у них мерила ни для оценки поступков, ни для различения добра от зла. Сердца их поражены преждевременною дряблостью, умы не согреты стремлением к добру и человечности; понятие о Правде отсутствует». Говоря об угнетающей детский ум и детское сердце педагогической системе, Салтыков, конечно, подразумевал и тот общий порядок вещей, то общественное состояние, при котором такая система становится возможной.
Салтыков думал и о тех «детях», которые, не довольствуясь изменением «форм», вышли на героическую борьбу с «злополучием», «фатализмом», «системой», «сущностью»... «Нетерпением» называет он эту борьбу, в итоге своем трагическую, но бесплодную ли? Чего у этих «детей» во всяком случае нельзя отнять — так это «самоотвержения», качества, выше которого не было для Салтыкова ничего.
«Бывают сермяжные эпохи, когда душа жаждет, чтобы хоть шепотом кто-нибудь произнес: sursum corda! — и не дождется...» Такой «сермяжной» — страшной, безнадежной — эпохой виделась Салтыкову эпоха восьмидесятых годов, которую мучительно переживало русское общество и прежде всего стремившаяся к сознательности русская молодежь...
Что же нужнее всего в эту «сермяжную» эпоху? Да именно это — sursum corda! И Салтыков всем своим творчеством, своей сатирой говорил именно эти слова, звал к возвышению идеала, мысли, истины. Это была глубоко осознанная, пережитая всем существом цель, о которой в той же главе «Дети» Салтыков сказал прямо: «Не погрязайте в подробностях настоящего, — говорил и писал я, — но воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и сердцам вашим, вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недальнозорким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности; в сущности же они представляют собой не отрицание прошлого и настоящего, а результат всего лучшего и человечного, завещанного первым и вырабатывающегося в последнем. Разница заключается только в том, что создавая идеалы будущего, просветленная мысль отсекает все злые и темные стороны, под игом которых изнывало и изнывает человечество».
В почти непереносимых муках смертельной болезни «скорбь Имярека», сомнение в плодотворности труда всей жизни нередко посещали Салтыкова. Но в минуты ясного сознания и беспристрастной оценки сделанного Салтыков не мог не понимать, что своим путем, путем сатиры, беспощадно отсекая и поражая злые и темные стороны, он тем самым извлекал из прошлого и настоящего все лучшее и человечное, воспитывал в русском человеке и русском обществе идеалы будущего.
Все лето и осень 1888 года, даже испытывая болезненные приступы, Салтыков переживал небывалый творческий подъем, работал много и упорно, и в каждой книжке «Вестника Европы» с сентября 1888 года по март 1889 появлялись одна за другой очередные главы «Пошехонской старины».
Но в октябре он вновь почувствовал резкий упадок сил. Все более трудным становилось общение с семьей. Домашняя обстановка непонимания и отчуждения усиливала болезнь, а болезнь, не отпускавшая ни на минуту, непрекращающиеся стоны и жалобы отдаляли семью. И Салтыков понимал это: «Обиднее всего то, что я не только сам мучусь, но и семью мучу» (Н. А. Белоголовому — 10 октября 1888 года). Являются почти фантастические, конечно, неисполнимые планы уйти, скрыться, оставить семью, жить отдельно и все равно где: в Петербурге, Царском Селе и даже во Франции, у сестры Елизаветы Аполлоновны Анны, вышедшей замуж за француза, только бы «выйти из несносной обстановки, в которой я нахожусь».
Угнетающе действовала на раздраженные нервы тьма и сырость поздней петербургской осени: «Ни одного светлого луча в течение двух месяцев; погода каждый день меняется три, четыре раза, постоянный западный ветер грозит наводнениями».
Работать становилось все труднее и труднее, мечталось о скорейшем окончании пошехонской хроники. Даже стало казаться, что «конец «Старины» неинтересен и может значительно подорвать интерес, возбужденный началом». Мнительный и всегда строгий к себе, Салтыков заблуждался: интерес не пропадал, но яркие и живые характеры обитателей Пошехонья и в самом деле намечались все более беглыми штрихами, казались как бы не до конца выписанными, как бы эскизными. 16 января 1889 года Салтыков писал Стасюлевичу: «Я кончил, так что Вы можете прислать за рукописью когда угодно. Конец неважный, но я чувствовал такую потребность отделаться от «Старины», что даже скомкал». Речь шла о «Заключении», в тесные рамки которого Салтыков сумел вместить картину «пошехонского раздолья», которому в замысле, конечно, предполагалось дать гораздо больше места. Но увы! «Масса образов и фактов, которую пришлось вызвать, подействовала настолько подавляющим образом, что явилось невольное утомление. Поэтому я и кончил, быть может, раньше, чем предполагал...» («Заключение») .