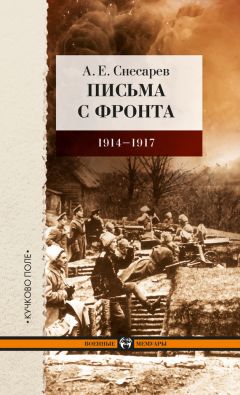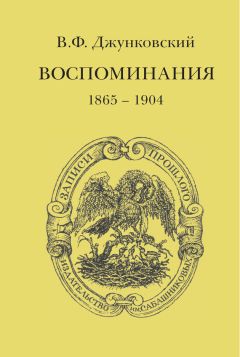Прости меня, моя голубка-женушка, что я твое сердце отравливаю картинами скорби и разложения, но я сам все это выслушал только вчера вечером и еще по сию минуту нахожусь под впечатлением от услышанного. Мы о тыле так мало знаем и так заняты своим прямым делом, что когда в этот самый тыл вдруг пробивается для нас окно и нам удается взглянуть на происходящее, мы поддаемся нахлынувшим впечатлениям, и они давят нас больше, чем вас; мы ясно сознаем, что с тылом мы связаны и психически, и материально, и что если там гниль и развал будут продолжаться, то наши самые героические усилия не приведут ни к чему… и нам останется один удел: красиво погибнуть. От тебя писем нет три недели; если бы меня не задергали, как это делают, я, может быть, на днях и получил бы что-либо из твоих писем, но я стал путешествовать, и к почтовой разрухе, созданной отступлением, прибавилась новая причина: мой уход от почтовой конторы. Завтра вновь посылаю подводу, и, может быть, к вечеру послезавтра она мне что-либо привезет… но привезет ли?
Конечно, я себя держу в руках и всеми помыслами, всей логикой моего мышления повторяю себе, что у вас все благополучно, но иногда и у меня в мое сердце вползает сомнение (особенно считаясь с твоим состоянием), и я начинаю ходить из угла в угол, и нет во мне сил ждать, и я рисую себе все ужасы, а главное, мне так недостает твоих строк – независимо [от] их содержания, – не достает этих долетевших до меня листов бумаги, которые дорисовывают моему воображению многое: и комнатку, где ты сидишь одиноко или с играющей в стороне дочкой, и твою склоненную головку, и милую (с короткими пальчиками) лапку, бегающую по бумаге… И я понимаю теперь, как создается в стране реакция: одного волнует и пугает необеспеченность жизни и имущества, помещика – жизнь на вулкане под угрозой крестьянского движения, меня – дикая организация почты, не дающая в течение трех недель никаких мне сведений о женке и т. п. Слагаемые многочисленны, сложны и разнообразны, их историк и не разберет, а скажет только свое слово о конечной сумме: в таком-то месяце в стране стала наблюдаться реакция, которая к такому-то моменту усилилась и тогда-то дала такие-то результаты.
У нас стоят жаркие дни, но нас они не страшат: у нас под боком Днестр; мои ребята, как утки, купаются от утра до вечера. Вчера я сам купался около 15 часов, а сегодня сейчас опять думаю купаться. Все горе в том, что камни очень остры, и мы сейчас выдумываем, как с этим бороться; а идти до глубокого места очень далеко. Как-то еще раз заезжал в Каменец и завтракал в Belle-Vue [ «Прекрасный вид» – франц. ]; все припомнилось, как живое: наши первые часы в этой гостинице, ход пешком к новой квартире (я вел Кирилку за руку)… все это я рассказывал Ник[олаю] Федоровичу.
Давай, моя милая, твои глазки и губки, а также наших малых, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
Целуй Алешу, Нюню, детей. А.
30 июля 1917 г.Дорогая моя женушка!
Четвертый день на том же месте, отдыхаем и купаемся. С отдыхом приходит успокоение. Вчера вечер провел в одном полку (у Шепеля), среди офицеров. 12.VII полк потерял много офицеров, и оставшаяся группа, человек в 45, производит впечатление осиротевшей семьи. Сначала мы поболтали, а потом попели немного. Шепель, которому и самому-то нет еще 40 лет, в этой безусой молодой семье производит впечатление деда, восседающего среди своих внучат. Теперь эти внучата смотрят веселее и бодрее, они подшучивают и поют песни… порядок и дисциплина, проникающие в армию, несут с собою освобождение души офицерской; по крайней мере, как это было недавно, теперь офицера не провожают матерным словом. Я пробыл вчера недолго, но вышел из собрания с хорошим и славным настроением. Сегодня я проведу вечер в другом полку. Только что рассматривал своих лошадей: Галя страшно худа и все жаждет иметь кавалера, но так как уже июль, мы ей этого удовольствия не доставим; Ужок неплох, но не дает хорошего роста – в нем пока не больше 2 арш[ин] 12 вершков; Революционер – сама роскошь – дылда уже теперь большая (голова в уровень с Передирием), сложен божественно – особенно зад и постав задних ног, – играет без конца, на нем теперь постоянно недоуздок. Относительно твоих писем у меня еще нет шансов на получение, так как вся фронтовая корреспонденция задержана в Жмеринке и до сих пор ее никак не могут разобрать. Обещают, что через 2–3 дня все будет рассортировано и разослано. Это письмо я посылаю с оказией в Могилев, где оно и будет опущено на почту.
Я сейчас каждый день ем фрукты – особенно груши – и чувствую себя в этом отношении удовлетворенным, правда, груши не особенные, а сливы – дрянь, но я доволен и этим. Как-то виделся с Вирановским и поднимал с ним вопрос о получении от него 2-го гв[ардейского] корпуса, если он получит армию; но он ее не получил, а в результате с носом остался и я. Иду обедать, а письмо передаю посыльному.
Давай, моя драгоценная, твои глазки и губки, а также наших малых, я вас обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
Целуй Алешу, Нюню, деток. А.
31 июля 1917 г.Драгоценная моя и ненаглядная женушка!
Вчера в первый раз после трехнедельного промежутка я получил четыре твоих письма от 29 и 30.VI и от 1 и 2.VII. В письме от 30.VI ты уже предавалась полному отчаянию, собиралась идти к коменданту, и даже приходило тебе на мысль, что я тебе не пишу потому, что чем-то не доволен. Моя золотая и единственная, ну мог бы я остановиться на столь страшной мысли – не писать, т. е. казнить тебя и всех злой казнью, из-за какого-то неудовольствия. Разве это возможно, разве можно этим шутить, разве так жестоко можно проявлять свое неудовольствие! Зато в двух следующих письмах, получив мои, ты резко меняешься и входишь в самое подробное рассмотрение моей ревности. Ты проводишь против меня убийственные сопоставления и забиваешь меня вконец; на твои вопросы я не могу отвечать – все это было так давно, и при всей своей памяти я не могу вспомнить ни фамилии твоей подруги, ни того, в каком из писем В[алериана] И[вановича] ты называешься «дорогой Ев[генией] Вас[ильев]ной», в каком именуешься более официально, да и вообще-то я не знал, что этих исторических документов в твоем распоряжении находится несколько, а не один. Конечно, если бы я в действительности был ревнив, как это обрисовываешь ты, то уж счет этих писем я вел бы довольно точный.
Во всяком случае, твои письма и особенно сведение, что ты начинаешь получать мои, сняли с моей души страшную тяжесть; теперь, надеюсь, ход писем наладится и ты начнешь получать мои – а я твои – более или менее регулярно.
Я 11-й день нахожусь на отдыхе, и мы все понемногу приводим себя в порядок.