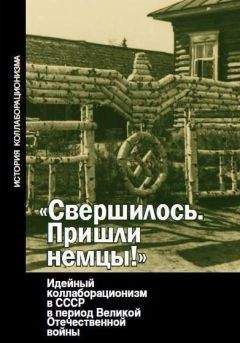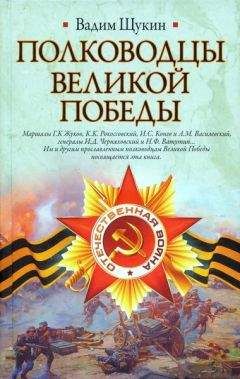Событий никаких, если не считать того, что число умирающих возрастает с каждым днем. Но мы все к этому привыкли, и это не считается событием. Попробую обрисовать наше существование с птичьего полета. На кровати лежит распухший мужчина. Если поднимет колени, то за животом не увидит. Лицо всё заросло. Глаза неестественно блестят. На диване, напротив, лежит такая же распухшая женщина. Только без бороды. Говорят очень слабыми голосами. Всегда на одну и ту же тему: какова будет жизнь, когда немцы победят, война кончится и большевиков разгонят. Имеется уже совершенно разработанный план устройства государства, программы народного образования, землеустройства и социальной помощи. Вообще предусмотрены все случаи жизни.
Горит коптилка в лучшем случае. Чаще освещаются печкой. За стенами — разрушенный город. Свистят снаряды. Некоторые падают во дворе. Иногда вылетают все стекла, и тогда приходится вставать и затыкать окна тряпками и картонками. Если нужно встать и пойти в темную и холодную кухню «по нужде», человек терпит елико возможно, потому что встать — это большой и тяжелый труд. И над всем этим [превалирует] — беспрерывное, сверлящее чувство голода. Того голода, который разрывает внутренности и от которого можно начать выть и биться. И непрерывно мозг сверлит одна мысль: где и как достать еды? И вот как-то в один из таких вечеров я спросила всех наших: М.Ф., Витю, Колю: «А что, ребята, если бы сейчас пришел к нам какой-нибудь добрый волшебник и предложил бы нам перенестись в советский тыл. И там была бы довоенная жизнь, и белый хлеб, и молоко, и табак, и всё прочее. Или сказал бы, что мы до конца дней наших [будете] будем жить вот так, как сейчас. Что бы вы выбрали». И все в один голос, еще я не успела докончить фразы, сказали: оставаться так, как сейчас. Ну, мы с Колей понятно. Мы всё предпочтем советской власти. А вот Витя, воспитанник этой самой власти. Я спросила у него — почему? Очень спутанно и сбивчиво он смог все-таки дать понять, что там, в прежней жизни, не было никаких надежд, а теперь он видит надежду на лучшее. А М.Ф., которой при советской власти уж не было совсем-то плохо жить? [уж совсем было неплохо жить] Она просто обругала меня, чтобы я не приставала с глупостями. «Всякому понятно, почему».
Может быть я выживу, и этот дневник уцелеет. И, вероятно, я сама буду читать эти строки с сомнением и недоверием. Но было всё именно так, как я сейчас записала. Мы предпочитаем все ужасы жизни на фронте без большевиков мирной жизни с ними. Может быть потому, что в глубине сознания мы верим в нашу звезду. Верим в будущее освобождение. И уж очень хочется дождаться времени, когда можно будет работать во весь дух. А работы будет очень много. И работники будут нужны. И еще поддерживает мстительное желание посмотреть на конец «самого свободного строя в мире». Испытать радость, при мысли о которой дух захватывает. Только страшно, что резать будут много и, как всегда, не тех, кого надо. Зарежут и нас, вероятно.
02.02.42
Работать в бане всё труднее. Уже просто не под силу закладывать котел. Теперь я часто в своей камере сижу и плачу от физического бессилия. А таскать наверх корзины с обмундированием! Что это за мука! Хотя бы весна скорее. Тогда хоть трава будет. Мы уже почти не говорим друг с другом. Тяжело. И страшно, что кто-нибудь из нас скажет: больше терпеть не могу. Если человек начинает думать, что он не может, — он в самом деле перестанет мочь. Его уже не спасти.
03.02.42
Сегодня я ходила в Управу и устроила интригу против Коли. Ему необходимо какое-то дело. Я договорилась с городским головой, что он достанет ему разрешение на посещение пустых домов и на розыск там книг. У нас в Царском Селе было много частных библиотек, оставшихся еще со времени революции. Теперь никому книги не нужны, и они пропадают. Говорят, что немцы собирают и вывозят книги в Германию. У нас пока этого нет. И может быть нам удастся спрятать и сохранить хотя бы часть самых ценных книг.
04.02.42
Сегодня Коля получил соответствующую бумажку. Страшно увлечен этим делом. Когда голова заговорил с комендантом о такой бумажке, тот сначала не поверил, что это в самом деле книги. Думая, что книги просто предлог для узаконения грабежа пустых квартир. Когда же его уверили, что это в самом деле книги, то он шепотом спросил: а он не опасный, этот ваш профессор? И на недоумение разъяснил: «Разве вы не понимаете, что он сумасшедший? Но, по-видимому, безобидный». Между прочим, немцы очень любят чины и звания. Они наградили Николая званием профессора к его великой ярости. И теперь он никак не может избавиться от этого чина. И как только кто-нибудь его так называет, он выходит из себя. Но не профессору немцы не давали бы писать работ по истории бани, а, значит, не дали бы супа. Не профессор никогда бы не получил разрешения на сбор книг. Немцы, каких мы здесь видим, производят впечатление совершенно неинтеллигентных и во многих случаях диких. Наши военкомы, конечно, никогда не зачислили бы чудаковатого профессора в сумасшедшие только потому, что он не грабит квартир, а собирает книги для общего пользования. И обязательно помогли бы ему в этом деле, чем только могли. А для этих гетевско-кантовских душ — всё, что бескорыстно, — непонятно и пахнет клиникой для душевнобольных. Воспитание у фашистов и большевиков дается, по-видимому, одинаковое, но разница в народе. Наших воспитывали в большевистских принципах 20 лет — и всё же не могли у них вытравить подлинного уважения к настоящим культурным ценностям и их носителям. А там фашисты у власти какой-то десяток лет — и такие блестящие результаты. Вероятно, Коля прав, когда говорит, что вся Европа охотно примет коммунизм, и единственный народ, который с ним борется, — русский. Я всегда с ним спорила. Уж очень наш народ казался мне диким и некультурным. Теперь же мне всё яснее становится разница между культурой и цивилизацией. Немцы цивилизованы, но некультурны. Наши дики, не воспитаны и пр., но искра Духа Божия, конечно же в нашем народе гораздо ярче горит, чем у европейцев. Конечно, и среди немцев есть ЛЮДИ, но все же ШПАНЫ больше.
06.02.42
Коля страстно увлечен своим новым занятием. Надо видеть эту фигуру. Заросший, еле передвигающий ноги, с маленькими саночками и со стопочкой книг. Много-то он увезти не может. И бродит такой призрак культуры по Царскому Селу, по пустым, мертвым улицам, среди развалин, под обстрелами. Бродит и приятно улыбается, если удается найти что-нибудь ценное, и огорченно вздыхает, если нападет на следы хорошей, но погибшей библиотеки. Особенно он огорчен тем, что погибла библиотека Разумника Васильевича. Она находилась в его квартире, на территории нашего санатория. Сейчас этот район совершенно недоступен для гражданского населения. А там было собрано несколько тысяч томов и всё уникумы [интереснейшие раритеты]. Солдаты рвут и топчут и топят печки ими. А там была его переписка с такими поэтами, как Вячеслав Иванов, Белый, Блок, и прочими символистами и всеми акмеистами. Несколько раз умоляли немцев из этого дурацкого СД вывезти все эти сокровища. Всякий раз обещали и ничего не сделали. И теперь всё это пропало. НИЧЕГО не осталось. Вот тебе и Гёте с Шиллером! И сколько ни вдалбливали в их телячьи головы, что эта библиотека, кроме своего культурного значения, имеет также и огромную материальную ценность и что хозяин отступается от своих прав на нее, только бы она не погибла, а была бы где-то в сохранности, — ничего не помогло! Вот если им сказать, что в таком-то месте имеется меховое пальто или еще что-нибудь в том же роде, найдутся и средства для перевоза, и храбрецы. В каком бы опасном месте это ни было. Нет, наши военкомы гораздо понятливее на такие вещи.