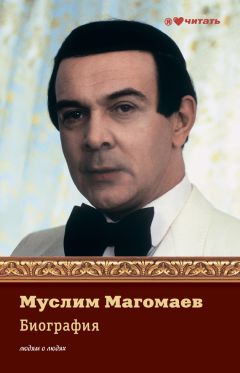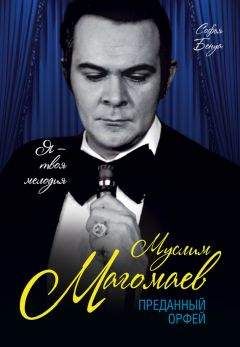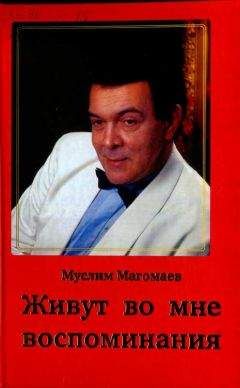— Наконец-то у нас появился настоящий баритон. Баритон!
Понять ее было можно. Как заботливая хозяйка в своем культурном «доме» она рассуждала так: с тенорами и басами у нас все в порядке, а вот со средним мужским регистром… Пресса очень активно откликнулась на мой успех. Восторженные оценки, анализ исполнения. Критических замечаний не припомню. Это и радовало, но и настораживало. Неужели меня так высоко вознесли, что и камешком не добросишь? Из тех отзывов приведу один, дорогой для меня, билетеров Кремлевского дворца, самых искушенных, самых объективных и самых бескорыстных критиков. На концертной программке они мне написали: «Мы, билетеры, невольные свидетели восторгов и разочарований зрителей, радуемся Вашему успеху!»
Художественным руководителем концертов декады был наш известнейший композитор Тофик Кулиев. Я пришел к нему на следующий день после концерта, чтобы извиниться за то, что устал, что уже не смогу выступить как надо. В ответ услышал: «Ты вечно собой недоволен. А между прочим, вот человек, который пришел специально поговорить с тобой». И Тофик Кулиев показал на представительного вида мужчину, с которым перед тем разговаривал. Этот солидный товарищ непререкаемым тоном заявил:
— На завтра назначено ваше прослушивание в Большом театре.
Ничего не понимая, я спросил:
— Простите, а зачем?
— Как зачем? Здесь находится директор Большого театра, сама министр культуры, другие ответственные товарищи. И мы решили.
— Не хочу я в Большой! Поймите меня правильно. Я не дорос до такой сцены.
— А мы вас не солистом, а стажером.
Мне не понравился безапелляционный тон разговора.
— Я не хочу ни солистом, ни стажером. Я бакинец, я там живу, учусь и работаю.
Вежливо, но настойчиво я отговаривался. Не мог же я сказать, что Большой театр — пучина. Что я не буду там первым. Я понимал, что если приду туда, то ко мне будут относиться как к мальчику из Баку, который подает надежды. Коллеги начнут есть поедом, то есть будут интриги, а старики примутся советовать, что петь и как петь. А потом, в главном театре страны сразу придется входить в советский репертуар, который я, воспитанный на оперной классике, терпеть не могу. Дома досталось от дяди.
— Ты что натворил? Тебя куда зовут? Тебя в Большой театр зовут!
Я пытался защищаться: — А как быть с республикой?
— Я уже договорился с первым секретарем. Товарищ Ахундов разрешил. Сказал, пускай едет.
Я обиделся: — Вот так легко меня из Баку отпускаете? А меня вы спросили?
Дядя вспыхнул: — Что ты тут о себе понимаешь?! Молод еще! Люди тебе добра желают.
Но я тоже из породы Магомаевых: — Вы меня, дядя Джамал, насильно не заставите. В Большой театр идут тогда, когда за спиной багаж и когда ты уже состоялся как личность.
Мы остались каждый при своем. Я подумал, если бы мне сказали, что я никогда не буду петь в Большом театре, то я назло, и себе, и всем ответил бы, что буду петь в Большом. Немного позже, после стажировки в Италии, мне предложили дебют в Большом театре. На этот раз спеть в «Севильском цирюльнике» на сцене Кремлевского Дворца съездов. Но без единой репетиции! Я вежливо отказался. Большой теперь был для меня закрыт.
После заключительного концерта в Большом театре и по случаю удачного завершения Декады мастеров искусств Азербайджана в Москве был устроен прием, который своим присутствием почтил Никита Сергеевич Хрущев. Просторная правительственная комната-гостиная наипервейшего нашего театра. Толкучка с фужерами и тарелками в руках. Фуршет. Дядя Джамал среди почетных гостей как лицо официальное, постпред Азербайджана. Подобные мероприятия всегда проходили в рамках протокола. Входили в зал по рангу: сначала члены Политбюро, потом правительство, следом работники Министерства культуры. Когда вошли мы, артисты, все уже были в сборе. Наша делегация была большая, и отведенного нам места не хватило. По своей природной стеснительности и несуетности я вошел последним, уступая всем дорогу. В шеренге артистов для меня места не оказалось, и я был вынужден «занять территорию» большого начальства. Осторожно протиснулся, загородив при этом кого-то спиной. Сзади вдруг слышу:
— Молодой человек, Москву покорили и уже здороваться не хотите?
Оглядываюсь, Анастас Иванович Микоян! От смущения я тогда забыл назвать его по имени-отчеству:
— Извините, ради Бога…
Все вращалось вокруг Хрущева: что бы ни делалось и ни говорилось, все старались угодить хозяину. Казалось, что собрались здесь не в знак дружбы двух великих народов, а исключительно ради Хрущева. Ему то и дело подливали. Он раззадорился и перешел на воспоминания из военных лет. Никита Сергеевич любил козырнуть познаниями в разных сферах жизни. Хоть и дилетант, он умел подметить своим практическим умом ту или иную особенность, присущую предмету размышления. Азербайджанское музыкальное творчество держится на мугаме. А мугам — такая экзотическая музыка, которая неискушенному слушателю может показаться рыданием. Все эти наши «зэнгюла», трели с фальцетом, горловые и грудные рулады, перекаты и вправду производят впечатление плача. И вот Никита Сергеевич стал рассказывать о том, как во время войны он встретил солдата-азербайджанца, который по вечерам, когда на передовой было спокойно, заводил свою песню-плач. «Слушай, что ты все время плачешь? — спрашивал я его. — Да нет, товарищ командующий, — отвечал боец, — я не плачу, а песню пою». Тут Никита Сергеевич зашелся смехом и, сотрясая воздух коронным жестом, рукой со сжатым кулаком, заключил свой рассказ:
— Сегодня на концерте я понял, товарищи, что азербайджанцы действительно поют, а не просто плачут. Вот таков и будет мой тост во славу национального искусства. — И, хлоп очередную стопку.
Потом Рашида Бейбутова попросили спеть что-нибудь, хотя все знали, что будет любимая песня Нины Петровны Хрущевой, «Рушник» Майбороды. Бейбутов спел, как всегда, очень задушевно. Хлопали долго. Потом Хрущев стал указывать пальцем в нашу сторону:
— А теперь пусть споет наш комсомол.
Я машинально оглянулся по сторонам, потому что никогда комсомольцем не был. (Хотя на фестиваль в Хельсинки меня послали как комсомольца. Тогда вообще нас всех посылали как комсомольцев.) Но дело даже не в этом. Терпеть не могу все эти застольные песнопения без аккомпанемента. А куда было деваться? Микоян, уже как бы на правах нашего короткого знакомства, подзадорил:
— Спой итальянскую песню. Ты лучше всех такие песни поешь. Я слышал.
Я вежливо объяснил, что итальянские песни надо петь под аккомпанемент, а поблизости нет рояля. Решил сделать ход конем, чтобы пел не я один, а все вместе, хором. И запел «Подмосковные вечера». Хрущев буквально вытолкнул ко мне Фурцеву: