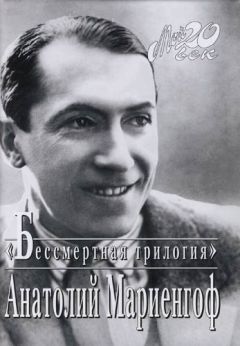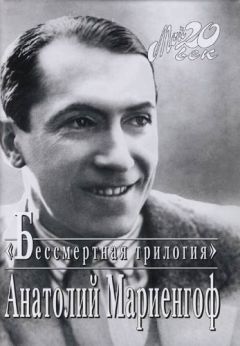«На Ревельском направлении появились на фронте новые белогвардейские отряды в черных касках с белыми крестами. Эти отряды организованы местными баронами при ближайшем участии англичан».
«Из Баку в Батум проследовал эшелон английских войск».
«Центром воссоздания белой России назначается Харьков».
«Для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности создается Московская Чрезвычайная Комиссия».
«Французский министр иностранных дел Пишон заявил: «Мы намерены отстаивать в России наши права, нарушенные большевиками».
«Английские адмиралы заявили, что они будут без предупреждения расстреливать всякое судно, имеющее на вымпеле красный флаг».
«В связи с чрезвычайным переполнением московских тюрем и тюремных больниц сыпной тиф принял там эпидемический характер».
«Утвержден закон об учреждении Донского правительствующего Сената, две трети которого составлены Красновым из бывших царских сенаторов».
«В Сибири, в каждой губернии Колчаком назначен генерал-губернатор из старых царских генералов».
«Признать Советскую Республику угрожаемой по сыпному тифу».
«Запасы нефти на Московской электрической станции почти совершенно иссякли».
«Установлено новое движение трамвайных вагонов. Линии 1, 3, 5, 8, 11, 13, 18 и 19 отменяются».
«Коллегия Горпродукта постановила продажу часов отменить».
«Работники Советской власти в провинции часто бывают в безвыходном положении: надо представить смету в 10 экземплярах, а бумаги нет».
«Постановлено в Москве прекратить подачу потребителям электричества с 11 часов вечера».
«С 10 января хлеб в Петрограде выдается населению по прежней норме, то есть по I категории по 1/2 фунта, по II — 1/4 и по III — 1/8 фунта на день».
«Объявляется на 5 и 6 января с. г. всеобщая обязательная повинность по очистке площадей, улиц, тротуаров и бульваров Москвы от снега».
И так далее в том же роде.
Это из газет за первую неделю января.
Бонч-Бруевич рассказывает:
«В 1919 г., в Кремле красноармейцами был устроен литературно-музыкально-вокальный вечер, на котором, между прочим, должна была выступить артистка Гзовская. Ленин решил пойти послушать и пригласил меня пойти вместе с ним. Мы сели в первый ряд.
Гзовская задорно объявила «Наш марш» Владимира Маяковского.
Артистка начала читать. То плавно ходя, то бросаясь по сцене, она произносила слова этого необыкновенного марша:
Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
Перемоем миров города.
— Что за чепуха! — воскликнул Владимир Ильич. — Что это, «мартобря» какое-то?…
И он насупился.
А та, не подозревая, какое впечатление стихи производят на Владимира Ильича, которому она так тщательно и так изящно раскланивалась при всех вызовах, искусно выводила:
Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица!
требуй, чтоб на небо
нас взяли живьем.
И после опять под марш:
Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша — медь литавр.
И остановилась. Все захлопали. Владимир Ильич закачал головой, явно показывая отрицательное отношение. Он прямо смотрел на Гзовскую и не шевелил пальцем.
— Ведь это же черт знает что такое! Требует, чтобы нас на небо взяли живьем. Ведь надо же договориться до такой чепухи! Мы бьемся со всякими предрассудками, а тут, подите пожалуйста, со сцены Кремлевского красноармейского клуба нам читают такую ерунду.
И он поднялся.
— Незнаком я с этим поэтом, — отрывисто сказал Владимир Ильич, — и если он все так пишет, его писания нам не по пути. И читать такие вещи на красноармейских вечерах — это просто преступление. Надо всегда спрашивать артистов, что они будут читать на бис. Она под такт прекрасно читает такую сверхъестественную чепуху, что стыдно слушать! Ведь словечка понять нельзя, тарарабумбия какая-то!
Все это он сказал вслух отчетливо, ясно и стал прощаться с устроителями вечера, окружившими его плотным кольцом. Наступила неожиданная тишина, и он, торопясь, прошел сплошной стеной красноармейцев к себе наверх в кабинет.
Владимир Ильич долго помнил этот вечер, и, когда его звали на тот или другой концерт, он часто спрашивал: «А не будут ли там читать нам „Их марш“?…» Его задевало, что словом «наш» Владимир Маяковский как бы навязывал слушателям такое произведение, которое им не нужно.
Его отрицательное отношение к Маяковскому с тех пор осталось непоколебимым на всю жизнь. Я помню, как кто-то упомянул при нем о Маяковском. Он только кинул один вопрос: «Это автор „Их марша“?…» — и тотчас же прервал разговор, как бы совсем не желая ничего больше знать об этом глубоко не удовлетворявшем его поэте.
Луначарский добавляет: «Сто пятьдесят миллионов» Маяковского Владимиру Ильичу определенно не нравились. Он нашел эту книгу «вычурной и штукарской».
Да и по словам Горького, "Ленин относился к Маяковскому недоверчиво и раздраженно: «Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему, — не то и мало понятно».
Отношение как на ладони. Однако никому и в голову не приходило запрещать Маяковского, уничтожать Маяковского, зачеркивать Маяковского красным цензурным карандашом.
Он продолжал издаваться, печататься, даже в ЦО.
Выиграла ли от этого наша поэзия?
Как будто выиграла.
Четырнадцать держав шло на нас с мечом и огнем. Хлеба выдавали для первой категории по полфунта на день. А цензуры не было. Мы знали только РВЦ, то есть: «Разрешено военной цензурой». Если никаких военных тайн поэт или прозаик не разглашал, этот штамп РВЦ ставили на корректурные листы без малейшей канители. А уж за эпитеты, за метафоры и знаки препинания мы сами отвечали.
В газете «Советская страна» была напечатана моя поэма «Магдалина».
Одним из редакторов газеты был Борис Федорович Малкин, мой земляк по Пензе. Одновременно он заведовал и Центропечатыо.
Дня через три после выхода номера газеты с «Магдалиной» я зашел к нему в кабинет:
— Доброе здоровье, Борис Федорович.
Он поднял на меня свои большие коричневые, всегда очень грустные библейские глаза и сказал пискливым голоском, столь же безнадежно-грустным, как и глаза: