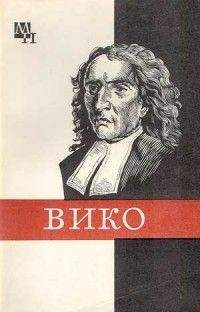В последние годы своей жизни Монтескье, тем не менее, работал немало, и после его смерти осталось несколько неоконченных или неизданных произведений, написанных и обработанных им в это время. Прежде всего сюда относится начало истории Теодориха Остготского, широко задуманной, но далеко не оконченной; далее – «Арзас и Исмения», повесть из восточного быта, и, наконец, некролог маршала Бервика, с которым Монтескье подружился в Бордо еще в юности и который, несмотря на значительную разницу в их возрасте, с уважением относился к смелым взглядам бойкого и блестящего юноши.
Кроме того, Монтескье хотел обработать для печати свои пространные путевые заметки и начал уже эту работу, которая, если бы ей суждено было дойти до благополучного конца, подарила бы нам еще одно замечательное произведение.
Мало-помалу враждебная критика должна была смолкнуть, и «Дух законов», распространяясь в публике, завоевывал своему автору все новых и новых восторженных поклонников. Чаще и чаще начали появляться хвалебные отзывы, вышло даже несколько целых книг, посвященных «Духу законов», поэты посвящали Монтескье стихи, почитатели из публики забрасывали его письмами, наполненными восторженными излияниями и иногда просьбами о разъяснении тех или иных сомнений и недоумений, вызванных чтением «Духа законов». Наконец, более предприимчивые почитатели нарочно предпринимали путешествие в Гиень, чтобы поговорить с Монтескье и посмотреть на него поближе. Таким образом, и деревня не спасла Монтескье от восторженных почитателей, но, конечно, в своем замке он чувствовал себя спокойнее, так как был хозяином своего времени и, хотя радушно принимал посещавших его, не обязан был, по крайней мере, как в Париже, целые дни слоняться по многолюдным салонам.
Личное знакомство с Монтескье еще более воодушевляло его поклонников, которых он умел обворожить своей любезностью, простотой и умом. Один из них писал после посещения замка Ла-Бред: «Никто решительно, будь то талантливый человек или нет, никогда не был более прост, чем Монтескье. Таков он был и в парижских салонах, и в своих владениях, где он гулял по полям, лугам и рощам, отделанным на английский лад, с длинной виноградной тростью на плече и в белом колпаке и где не раз те, кто являлся засвидетельствовать ему почтение от лица всей Европы, спрашивали у него, принимая его за садовника, где замок Монтескье».
Два посетивших его молодых английских туриста следующим образом описывают свои впечатления: «Вместо сурового и строгого философа перед нами был веселый, вежливый, полный жизни француз, который после тысячи любезностей предложил нам завтрак. Мало-помалу для нас сделался настолько незаметным его гений и его возраст, что беседа потекла так свободно и легко, как будто мы были людьми, равными ему во всех отношениях. После обеда Монтескье настаивал на том, чтобы мы остались еще, и отпустил нас только через три дня, в течение которых беседа наша была столь же занимательна, как и поучительна. Его секретарь, родом ирландец, проводил нас до Бордо».
Злые языки говорят, что свои досуги Монтескье посвящал в это время воспитанию своего незаконного сына Латапи. Он действительно возился с бойким и живым мальчиком, которому было в это время 9 лет, держал его при себе; гулял с ним, иногда диктовал ему свои заметки, весело болтал с ним и сам следил за его учением. Очень может быть, что Монтескье под старость почувствовал пробел в своей жизни, некоторую пустоту, так как законная семья не удовлетворяла его. Правда, он горячо любил своих детей, особенно младшую дочь и старшего сына; но в это время они были людьми взрослыми, обзавелись своими семьями, и потому, конечно, между ними и отцом не могло быть той близости, какая только может быть между родителями и их детьми, пока последние не вырастут и не начнут более или менее самостоятельной жизни.
Во всяком случае, был ли Латапи сыном Монтескье, или нет, несомненно, что ни воспитание, ни жизнь, ни рассудок, продиктовавший Монтескье наполненные презрением к женщине и семье строки его произведений, не могли заглушить в нем потребности в настоящей серьезной привязанности, которую он и перенес на своего воспитанника. Весьма возможно, что Монтескье изменил даже свои взгляды по этому вопросу, так как его повесть «Арзас и Исмения», в которой речь идет о супружеской любви и о которой мы упомянули выше, местами выдает настоящие чувства автора, замаскированные блестящими парадоксами.
В 1754 году Монтескье пришлось оставить свой замок и снова ехать в Париж.
Дело в том, что некий Ла-Бомель, родом француз, профессор университета в Даннемарке, был одним из первых, открыто выступивших с горячей защитой «Духа законов» против посыпавшихся на книгу нападок критики. Монтескье получил известие, что этот первый его горячий защитник по требованию французского правительства был арестован в Пруссии, выдан Франции и посажен в Бастилию как человек политически неблагонадежный.
Некоторые биографы Монтескье, принадлежащие к его горячим и не всегда беспристрастным поклонникам, говорят, что Ла-Бомель пострадал по доносу Вольтера, но мы не считаем себя вправе утверждать это, так как нигде не нашли заслуживающего доверия подтверждения возводимого на него обвинения.
Монтескье счел своей нравственной обязанностью отплатить Ла-Бомелю и постараться выручить его из беды. Он отправился в Париж, куда и прибыл в декабре. Он энергично стал хлопотать за несчастного профессора, поднял на ноги своих влиятельных друзей, – и ему скоро удалось добиться освобождения Ла-Бомеля.
Монтескье думал поскорее воротиться домой, но его задерживали всевозможные приглашения, от которых не всегда можно было отделаться. Он писал в это время из Парижа одному своему приятелю: «Я в ходу в большом свете, очень разбрасываюсь; пребывание в столице приведет меня к могиле, хотя и по пути, усеянному цветами». Отъезд, таким образом, откладывался со дня на день, а Монтескье между тем простудился и заболел. Призванный к больному врач Лорри сказал, что у него воспаление легких, и нашел положение серьезным. Он сказал об этом секретарю Монтескье, который и дал знать находившимся в Париже его друзьям и родным.
Весть о болезни Монтескье быстро распространилась по городу, отовсюду приходили справляться о ходе болезни. Сам Людовик XV каждый день посылал на квартиру больного с этою целью графа Ниверне. Мадам Эгильон и мадам Дюпре не отходили от его постели. На третий день были призван самый знаменитый врач того времени, Бувар, который, однако, ничего уже не мог сделать, – и Монтескье умер 10 февраля 1755 года. Перед смертью он исповедался у своего друга, иезуита Кастеля.