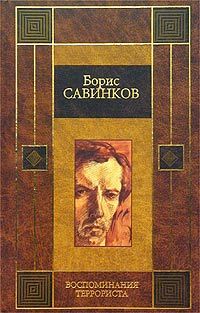– Всё равно… Пусть ты завтра уйдёшь… Но сегодня ты мой… Я люблю тебя, милый.
Я не пойму её. Я знаю: женщины любят тех, кто их любит, любят любовь. Но сегодня муж, завтра я, послезавтра опять его поцелуи… Я ей однажды сказал:
– Как можешь ты целовать двоих?
Она подняла тонкие брови.
– Почему, милый, нет?
И я не знал, что ответить. Я злобно сказал:
– Я не хочу, чтобы ты целовала его.
Она рассмеялась.
– А он не хочет, чтоб я целовала тебя.
– Елена…
– Что, милый?
– Не говори со мной так.
– Ах, милый мой, милый… Что за дело тебе, кого и когда я целую? Разве я знаю, кого ты ещё целовал? Разве я хочу и могу это знать? Я сегодня люблю тебя… Ты не рад? Ты не счастлив?
Я хочу ей сказать: у тебя нет стыда, нет любви… Но я молчу: разве в моей душе живёт стыд?
– Слушай, – смеётся она, – зачем ты так говоришь? То можно, это нельзя. Умей жить, умей радоваться, умей взять от жизни любовь. Не нужно злобы, не нужно убийства. Мир велик и всем хватит радости и любви. В счастье нету греха. В поцелуях нету обмана… Так не думай же ни о чём и целуй…
И потом говорит ещё:
– Вот ты, милый, не знаешь счастья… Вся твоя жизнь только кровь. Ты железный, солнце не для тебя… Зачем, зачем думать о смерти? Надо радостно жить… Неправда ли, милый?
И я в ответ ей молчу.
Я опять думаю об Елене. Быть может, она не любит меня, не любит и мужа. Быть может, она любит только любовь. Только в любви её яркая жизнь, для любви она родилась на свет и во имя её сойдёт в могилу. И когда я думаю так, во мне встаёт отрадная злоба. Что из того, что Елена со мною, что я целую её прекрасное тело и вижу любящие, в сиянье, глаза?… Она с улыбкой уходит к мужу, она любовно живёт его жизнью. Меня томит мысль о нём, об этом юноше, белокуром и стройном. И иногда, в тишине, я ловлю себя на мечтах, глубоких и тайных. И тогда мне кажется, что я думаю не о нём, а о том, кого уже нет и о ком я со злобою думал прежде. Мне кажется, что генерал-губернатор всё ещё жив.
Вот я иду тернистым путём. На узкой моей тропинке стоит он, её муж. Он мешает мне: она любит его.
Я смотрю, как в садах изнемогает усталая осень. Рдеют холодные астры, облетают сухие листья. Утренники свивают траву. В эти дни увяданья чётко встаёт привычная мысль. Я вспоминаю забытое слово:
Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,
Выйди на улицу
И – убей!
Генрих все эти дни прожил в Москве. У него в Замоскворечье семья. Только сегодня он уезжает в Петербург к Эрне.
Он отдохнул, пополнел и окреп. Глаза у него блестят и уже нет вялых слов. Я давно не видел его.
Мы сидим с ним в трактире. Здесь когда-то бывал с нами Ваня. Генрих ест и в промежутках между едой говорит:
– Читали, Жорж, что в «Революционных Известиях» пишут?
– О чём?
– Да о генерал-губернаторе.
– Нет, не читал.
Он возмущён и говорит горячо:
– Пишут о значении не только для Москвы, но и для всей России. Я согласен: этот акт – перелом. Теперь увидят, как мы сильны, поймут, что партия победит, не может не победить. Он вынимает тонкий листок печатной бумаги.
– Вот, Жорж, прочтите.
Мне скучно слушать его, скучно читать. Я отстраняю бумагу рукой. Я говорю с неохотой:
– Спрячьте. Не стоит.
– Что вы? Как же не стоит? Ведь для этого вся работа.
– То есть, чья же работа?
– Наша работа, конечно.
– Для газетной статьи?
– Вы смеётесь… Печатное слово необходимо. Нужна пропаганда террора. Пусть массы поймут, пусть идея борьбы проникнет в деревню. Разве не так?
Мне скучно. Я говорю:
– Бросим об этом. Слушайте, Генрих, вы ведь, любите Эрну?…
Он роняет ложку в тарелку и густо краснеет. Потом дрогнувшим голосом говорит:
– Откуда вы знаете?
– Знаю.
Он в смущеньи умолк.
– Ну, так берегите её… И желаю вам счастья.
Он встаёт, долго ходит по грязному кабинету. Наконец, говорит тихо:
– Жорж, я вам верю. Скажите мне правду.
– Что вам сказать?
– А вы не любите Эрну?
Мне смешно его хмурое, в красных пятнах, лицо. Я громко смеюсь.
– Я? Люблю Эрну? Что вы? Бог с вами.
– И никогда… никогда не любили?
Я говорю раздельно и ясно:
– Нет. Не любил.
Его лицо расцветает счастливой улыбкой. Он приветливо жмёт мне руку.
– Ну, еду. Прощайте.
Он быстро уходит. Я долго сижу один за грязным столом, между грязными тарелками. И вдруг безудержно смешно: я люблю, она любит, он любит… Что за скучная песня.
Я сегодня не видел Елены. Я ушёл вечером в Тиволи. Как всегда бесстыдно гремел оркестр, пели цыгане. Как всегда бродили женщины между столов, и их платья шуршали шёлком. И я, как всегда, скучал.
За соседним столом пьяный морской офицер. Блестит в стаканах вино, вспыхивают бриллианты у дам. До меня долетает смех и бессвязный говор. Медленно ходит стрелка часов. Вдруг я слышу:
– Что вы скучаете здесь?
Офицер, шатаясь, протягивает мне стакан. У него багровые щёки и подстриженные усы. Такие усы носил генерал-губернатор.
– Как вам не стыдно скучать… Позвольте представиться: Берг… Пойдёмте к нам, за наш стол… Дамы вас просят…
Я встаю, называю себя:
– Инженер Малиновский.
Мне всё равно, где сидеть: я лениво сажусь за их стол. Все смеются, все чокаются со мной. Плачут скрипки, а за окном сереет рассвет. Вдруг я слышу, кто-то спросил:
– Где Иванов?
– Какой Иванов?
– Да полковник Иванов. Куда девался Иванов?
Я вспоминаю: начальник Охранного отделения Иванов. Уж не его ли зовут? Я наклоняюсь к плечу соседа.
– Извините, не жандармский ли полковник Иванов?
– Ну да… конечно… Он самый… друг и приятель…
Меня жжёт желанный соблазн. Я не встану. Я не уйду. Я знаю: этот Иванов, конечно, носит с собою мой портрет. Я щупаю револьвер и жду. Входит Иванов. Он похож на купца, рыжебородый и толстый. Грузно садится за стол и пьёт водку. Нас, конечно, знакомят.
– Малиновский.
– Иванов.
Он пришёл сюда пить и мне опять уже скучно. Вот опять желанный соблазн, – подойти к нему и шепнуть:
– Джордж О'Бриен, полковник.
Но я молча встаю. На дворе плачет дождь, спит каменный город. Я один. Мне холодно и темно.
Я спрашиваю себя: зачем я в Москве? Чего я могу добиться? Елена только любовница. Она никогда не будет женой. Я знаю это и всё-таки не могу уехать. Я знаю также, что лишний день – лишний риск и что на карте стоит моя жизнь. Но я так хочу.
В Версале, в парке, с веранды видны озёра. Между нежными боскетами и кокетливыми клумбами их берега чертят чёткие линии. Влажным дымом клубятся фонтаны, молчат зеркальные воды. И над ними сонный покой.