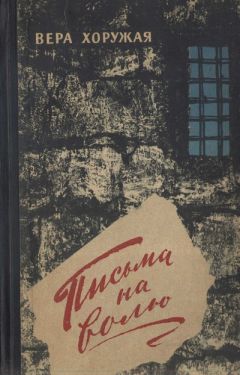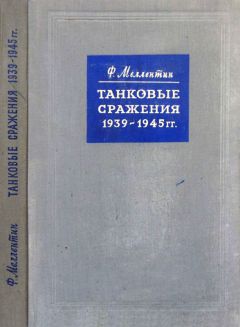Настроение у меня, как и у всех нас, весеннее, бодрое. Я не чувствую проведенных в тюрьме лет, забываю о моих (о ужас!) двадцати четырех годах и чувствую себя восемнадцатилетней…
23 мая 1928 г.
Сестре Надежде.
…Ты удивляешься, верно, что я тебе ничего не пишу о суде. Трудно о нем писать и не хочется. Напишу подробнее, когда все кончится.
У нас очень весело, много бодрости, смеха. Иногда целыми часами, сидя в зале суда, мы забываем, что это нас судят. Много впечатлений, очень различных, радостных встреч, давно невиданных картин.
Хорошо, что суд именно весною! Мы захлебываемся от восторга, когда видим зеленеющий лес и кучи ребятишек. Как праздника, ждем того дня, когда увидим цветущие сады. Мы уже давно не видели всей этой торжественной красоты, и кто знает, сколько лет еще многие из нас не увидят ее…
Как хочу я, чтобы все вы — мои любимые и свободные — всей душой вдыхали весну и голубое небо, чтобы, как дети, носились, радостные и веселые, по тому лесу, который я вижу только через решетчатое оконце тюремной каретки!
Без даты
Всем родным.
…Суд мой уже фактически закончен. Ждем приговора. Узнаем через несколько дней. Я здорова и бодра. Да как может быть иначе, когда пережито столько интересного, незабываемого?
2 июня 1928 г.
Товарищу С.
…Ты, верно, думаешь о моем суде. Он уже почти окончился. Теперь у нас последний перерыв. Ждем приговора. Особенных неожиданностей он нам, конечно, не принесет. Даже не десятки, а только единицы пойдут на свободу, и это несмотря на то, что до суда мы сидели три года. Прокурор требовал для всех подсудимых по восемь-десять лет. Освободить просит только одного — провокатора. Интересно, правда?
У нас редко бывает такое живое, бодрое настроение, как теперь Правда, хочется на свободу до чертиков, но разве еще двух-, трех-, пятилетняя перспектива тюрьмы может уменьшить нашу жизнерадостность, бодрость, силу? А силу нашу мы так крепко почувствовали, показали.
Во все время процесса мы были крепко организованной, сплоченной, бурлящей энергией массой. Все выступления говорили о нашей несокрушимой силе, готовности бороться дальше, дышали презрением и ненавистью к ним, неустрашимостью и безграничной преданностью делу.
И это в то время, когда каждое слово грозило новым годом тюрьмы… Но кто об этом думал! Нам затыкали рот на каждом третьем слове, прерывали и переходили «к порядку дня». Но зато как они дрожали и бледнели во время наших демонстраций. А для нас это были минуты высочайшего, незабываемого наслаждения. Как жаль, что ты не мог быть вместе с нами, что ты не видел наших ребят. Я их буду любить и помнить всю мою жизнь…
Вероятно, тотчас же после приговора всех нас развезут по различным тюрьмам. Это еще увеличивает торжественность настроения.
Мы прощаемся со старыми товарищами, с которыми так долго сидели вместе, так крепко связаны всей нашей своеобразно прекрасной тюремной жизнью, полной внутреннего света, напряженной работы, тоски и смеха, нужды и песен, смелейших полетов мечтаний и неустанной работы мысли…
Это только отчасти правильно, что мы в стороне от жизни, потому что мы более чутко прислушиваемся к каждому шороху жизни и гораздо сильнее реагируем (правда, только чувством и мыслью) на все ее проявления, чем вы, стоящие в самом центре ее…
С нетерпением жду перевода в новую тюрьму. Подумай только, я уже три года живу в том же городе, в той же «комнате». Когда это я вела такой постоянный образ жизни?
Где мне придется очутиться, не знаю, совсем не знаю, но ты пиши, я твои письма буду получать. Так не хочется, чтобы из-за переезда оборвалась наша переписка. Возможно, что после суда я буду аккуратно вообще получать письма, так что пиши очень часто и очень много обо всем, обо всем.
Опять спрашиваю о Толе[22]. Где он, каков он и что с ним? Напиши все, что знаешь. Ох, как я хочу найти его… Если бы я могла всех вас, так горячо любимых, видеть, обнять, все рассказать и обо всем расспросить! Как лелею я мечту о встрече с вами, с какой глубокой нежностью думаю о вас, как страстно хочу знать о вас. А все это будет, будет!
1 июля 1928 г.
Ему же.
Мы в тюрьме теперь на перепутье. Суд окончился. Приговор уже оглашен. Мне дали больше десяти лет[23]. Проводили на свободу несколько товарищей, ждем отъезда в новую тюрьму и пока сидим на месте. Серьезных систематических занятий еще, конечно, не возобновили, читаем беллетристику, благо как раз нам прислали пачку хороших книг. Живости, бодрости у нас всегда было довольно, а теперь суд над нами принес столько новых впечатлений, столько новых волн силы!
О ходе процесса я уже писала. Остается прибавить немного, но, пожалуй, самое прекрасное: мощный «Интернационал» осужденных под градом ударов полицейских. А затем (запомни, друг, картинку) — растрепанные волосы, изорванная одежда, синяки и ссадины на лицах, на всем теле. А глаза — солнца, пламя пожаров.
И могучая, победная, грозная песня через окно черной тюремной каретки, через штыки полицейских в широкие улицы насторожившегося и с угрозой притихшего городка…
Тогда же
Матери.
…Мамочка моя дорогая, любимая, родная! Вася[24] говорит, что и теперь, когда ты пишешь мне, ты много плачешь. Не надо этого, моя родная, дорогая. Мне так больно об этом знать.
Мамочка, ты хочешь моего счастья, так чего же ты плачешь, когда я счастлива? Да, мама, я не лгу, а искренне говорю тебе то, что глубоко чувствую. Я счастлива, такая счастливая, каких есть, наверное, мало. Разве это не наивысшее счастье, какое только может быть: жить и бороться, бороться с беспредельною верою в победу, отдавать любимой работе и борьбе все силы, всю душу, все нервы, быть молодой, иметь много дорогих и любимых друзей.
Да разве это все, что я имею? Вот видишь, мамочка, — это не пустые слова, найдется много людей, которые мне позавидуют.
Но, наверно, перед тобой все время мелькает страшное слово «тюрьма». Оно и вызывает у тебя слезы. Так знай, что тюрьма мне совсем не страшна, она только частично ограничила, но совсем не отбила у меня моего счастья, ибо я не перестала быть тем, чем была.
Думая о тюрьме, вы, вероятно, представляете себе голод и холод, и издевательства, и всякие беды. Все это так, но с голоду нам не дадут умереть товарищи. Мы ведь оставили на свободе тысячи дорогих товарищей, которые всегда помнят о нас. В тюрьме у нас «коммуна». Делимся каждым куском. Издевательств немало, но мы не сгибаем шеи, не даем на нас ездить. А кроме всего этого, у нас всегда бодрый дух, всегда много песен (хотя за это наказывают) и смеха. Правда, порой и грустим, но это только облачка на ясном небе.