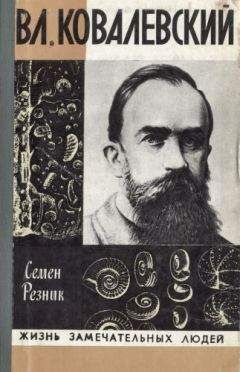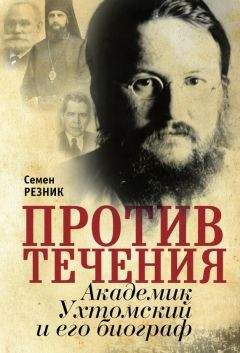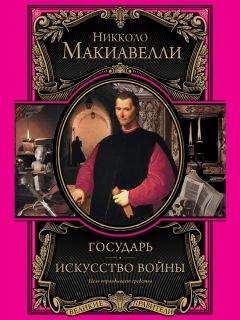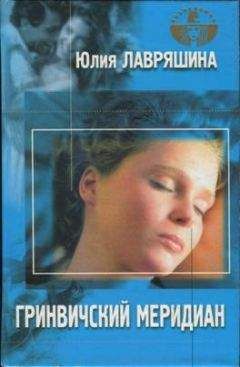Что же касается «улик», которых якобы вообще «быть не может», то они имеются. В конце 1865 года Владимир Онуфриевич вознамерился издавать журнал «Летописец», о чем подал прошение в Главное управление по делам печати. А управление, прежде чем ответить просителю, направило запрос в III отделение. И получило секретный ответ, из которого следовало, что Ковалевский — «человек с большими способностями, но образ его мыслей в политическом отношении не совсем благонадежен, а потому III отделение находило бы более осторожным ходатайство Ковалевского отклонить».
Этого документа вполне достаточно, чтобы полностью очистить имя Владимира Ковалевского от всяких недостойных подозрений.
10
Однако сам Владимир Онуфриевич не мог знать, что в секретных правительственных архивах лежат бумаги, подтверждающие его алиби, да он и не считал возможным оправдываться. Нетрудно понять, в каком настроении он возвращался домой...
Воображение невольно рисует поезд, мчащийся сквозь длинную осеннюю ночь. Тусклый свет ночника под потолком вагона. Кутающуюся в холодное летнее пальтецо фигуру на верхней полке. И бессвязные мысли, проносящиеся в его одурманенной от долгой бессонницы голове...
Колеса, рельсы, поезда, дороги... Вот что надо делать в жизни! Дороги! Это вечное. Это остается навсегда... И зачем Саша оставил корпус путей сообщения? Строил бы сейчас дороги и горя не мыкал!..
Но Саша всегда знал, что делать и как поступить. Сколько раз он круто поворачивал свою судьбу! И всегда сам — без чьей-либо помощи и совета. Ведь Петербургский университет он тоже оканчивать не стал — поехал доучиваться в Гейдельберг! Знаменитый Бунзен восхищался его успехами, пророчил будущее крупного химика. Но Саша почувствовал, что не вещества хочется ему изучать, а существа. И опять — как отрезало!.. Да, Саша строит дорогу. Разве строит только тот, кто делает насыпи, кладет рельсы и шпалы?
В двадцать шесть лет он уже доцент и скоро станет профессором. В России он один из виднейших зоологов. Да и в Европе его высоко ценят.
...Владимир мысленно любовался братом: его крепкой коренастой фигурой, голубоглазым лицом с густой, но не неряшливой, как у заправских нигилистов, а аккуратно причесанной и подстриженной бородой, его сдержанной одержимостью...
Саша доказал родство высших организмов с низшими, то есть внедрил идеи Дарвина в сравнительную эмбриологию. И те, кто пытался опровергнуть его открытие, лишь подтвердили Сашин триумф. Слишком ясно и четко излагал он свои наблюдения. Его рисунки безупречны. Мысль выражена с предельной простотой. И ничего лишнего. Ничего такого, что он не может подтвердить неоспоримыми фактами.
Не то, что Мечников! Городит теорию на теорию, петушится, всех несогласных уличает в ошибках. Кажется, он один еще оспаривает Сашино открытие. Но Саша все проверил снова. Прав он, а не Мечников! Придется Илье публично отказываться от своей «критики».
А Саша, несмотря ни на что, считает Мечникова другом. Восхищается его талантливостью. Уверяет, что Мечникова ждет громкая слава в науке... А ведь Илья — просто болтун и сплетник.
Перед Владимиром возникла тощая фигура Мечникова, его вытянутое лицо, маленькие близорукие глазки, самоуверенность в движениях и неприятном гортанном голосе... Снова в сердце закипела бессильная ярость.
Саша предупреждал, что до добра эти конспирации не доведут. Саша все знал заранее... Знал и предупреждал. Уговаривал, чтобы Владимир занялся какой-нибудь положительной наукой. Химией, что ли. Или, как он, зоологией... Авось, сделал бы что-нибудь путное — богом ведь, кажется, не обижен.
Да, уговаривал Саша. Предупреждал. Но ведь не уговорил... Не заставил! Во Владимире зашевелилось нехорошее чувство к брату. Свою дорогу Саша нашел безошибочно, а вот его наставить на путь истинный не сумел...
За окном стал пробиваться серенький осенний рассвет, и мысли потекли в другом направлении. Скоро русская граница. То есть долгая томительная стоянка. Проверка паспортов и досмотр вещей. Деловитые полицейские, мягкой осторожной рысцой пробегающие по вагону...
На сей раз Владимиру опасаться нечего. Кажется, впервые он возвращается в Россию без тайного груза, уложенного под ложное дно чемодана. Только письмо Герцена может служить уликой. К тому же — в нем имена: Бакунин, Серно-Соловьевич, Ламанский.
Владимир бесшумно спустился с полки, накинул на плечи пальтецо, вышел в тамбур. Открыл дверь вагона, и на него пахнуло сыростью раннего осеннего утра.
Он вынул из нагрудного кармана лист почтовой бумаги, исписанный таким знакомым почерком Александра Ивановича. Развернул его. Помедлил. Оторвал длинную полоску и, помедлив еще немного, решительно выставил руку вперед, в дверной проем, под струю мощного встречного ветра. Бумажная лента рванулась из пальцев, закружилась и умчалась вдоль вагонов.
Все было кончено.
Вместе с разорванным на узкие полосы герценовским письмом улетало в безвозвратное назад прошлое Владимира Ковалевскогр...
Гнусное подозрение долго еще отравляло существование Владимиру Онуфриевичу.
Следующим летом он вновь умчался за границу и в Ницце неожиданно столкнулся с Герценом. Встреча произвела на обоих крайне тягостное впечатление. Огареву Герцен писал:
«Лиза забыла у Висконти свою мантилью. Я с ней пошел и в дверях нос с носом встретился с Ковалевским — так что и разойтись нельзя было. Я руки не подал, но поклонился — сказал несколько слов. Глуп он был, и дерзок, и сконфужен. Я очень недоволен. И зачем же этот человек в Ницце, зачем он вообще беспрестанно ездит? Везде — как гриб. Лицо его стало ужасно — исхудал, вдвое прыщей».
И через несколько дней тому же Огареву: «К[овалевский] здесь и никуда не показывается. На мой вопрос «зачем он здесь?» он отвечал: «По делам». В Ницце — дела...»
Лишь позднее Александр Иванович окончательно отказался от каких-либо подозрений. 29(17) сентября 1869 года он написал Огареву, узнав о том, что Бакунин переводит на русский язык Маркса: «Почему же он держал под сурдинкой свои сношения с ним. Вся вражда моя с марксидами — из-за Бакунина. Так же, как в деле Ковалевского и в деле Оболенской, я ушел дальше бенефициантов — такова судьба».
Еще позже, после смерти Александра Ивановича, Ковалевский возобновил отношения с его семьей. Ему не раз говорили об искреннем сожалении, какое высказывал Герцен о происшедшем. И повышенной участливостью пытались загладить прежнее. Особенно сдружился Владимир Онуфриевич с Ольгой Герцен — давнишней своей ученицей. Когда она вышла замуж за французского историка Моно и поселилась в Париже, Ковалевский с особым удовольствием сообщил об этом брату. Научные занятия заставляли его часто бывать во французской столице, и он радовался, что в Париже есть дом, где он всегда будет принят как желанный гость.