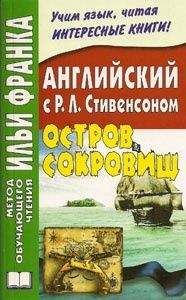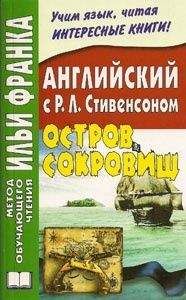Фоном повествования служит море (это пригодится в Москве, в столице моря суши). Событием должна стать смерть; после Франции, ее фокусов и вихрей другой начинки повести он не приемлет. Смерть как точка, остановка времени.
Любовь — это уж непременно, об этом Николай Михайлович догадается безо всяких подсказок.
Итак, морской рассказ о любви и смерти. Сюжет короток, как немецкая дорожная сказка (романтическая).
Часть первая, что запечатана во внутреннем письме; это еще не рассказ, но макет рассказа, части которого еще не соединены, словно в конструкторе для начинающего писателя. Девушка по имени Мария, что родилась в Лондоне, уезжает с отцом в Америку, где тот умирает, она же стремится обратно, потому что в Англии ждет ее возлюбленный, жених, о котором ей все это время ничего не было известно. Она садится на корабль, тот пускается в море (времени). Мария спешит в Лондон, но по дороге заболевает и умирает в горячке, и ее вместо похорон выбрасывают в море.
Она исчезает в воде — и во времени. Запомним эту водную концовку.
Теперь вторая часть рассказа, содержащаяся в большом письме, что служит для меньшего оболочкой. Николай Михайлович в Лондоне садится на тот же корабль, на котором умерла и с которого была сброшена за борт несчастная Мария, чтобы на нем плыть в Россию. Его приводят в каюту несчастной Марии, указывают на ее постель, более похожую на гроб (еще бы!), с тем же бельем и окружающей обстановкой и предлагают лечь в эту постель и так возвращаться домой.
Вот это поворот! С этим поворотом история обретает истинно литературное пространство. То именно пространство, которое одновременно разделяет и связывает мысль и слово, помещает автора перед зеркалом, в котором ему виден «евангельский» образец текста, которое пространство мы наблюдаем с самого начала настоящих заметок, стараясь сохранить дистанцию от «картины, которая рисует сама себя». Всё видящий Карамзин оказывается посередине собственного рассказа о любви и смерти, с гробом-постелью, плывущим по морю, — не зная, чем этот рассказ завершится. С большой вероятностью, по всем канонам жанра, он должен закончиться смертью автора.
Так, повисая перед неизвестностью, ввиду вероятной смерти, Карамзин становится писателем. Зачем он запечатывает одно письмо в другое? Наверное, на случай его смерти в дороге. Тогда, даже в случае его смерти, рассказ о Марии и о нем самом, повторившим судьбу Марии, мог найти читателя.
Корабль его добрался до берега, пересекши несколько морей между Лондоном и Кронштадтом. Рассказ об этом путешествии составляет содержание большего письма «Море». Спрятанное внутри него меньшее письмо означало, что во время странствия Карамзин все время думал о погибшей Марии.
Эта «запечатанная» мысль о только что состоявшейся смерти сопровождает все перипетии его странствия, — а оно было не просто, оно было всерьез опасно. Тут все имело место — штиль, и шторм, и морская болезнь, которая все же Карамзина настигла, и перелетающие через борт волны, и едва не состоявшееся крушение корабля у берегов Дании, во время которого команда выказала себя молодцами, и даже эпизод с наказанием пьяного боцмана, едва не сгубившего корабль. Ничего, с англичанами весело и умереть на море! Это подлинно их стихия.
Путешественник выжил, слава Богу. Рассказ его по этому поводу остался не дописан (роковые события, слава Богу, не сошлись одно с другим), но главное было сделано. Стихия моря, аморфное роение времени были покорены литературной композицией Карамзина. Его удвоенное письмо содержало все необходимые компоненты настоящего рассказа.
Путешественнику весело вдвойне. Во-первых, он выжил, во-вторых, покорен морской зверь времени — его, Карамзина, опусом, текстом.
Таким должен быть его текст. Бегущий, путешествующий, следящий сам за собой, не оставляющий читателя ни на минуту в равнодушном спокойствии. Обладающий должным пространством, воздухом во времени, дистанцией между Марией и Николаем, между «тогда» и «сейчас».
Замечательная вещица, отдельная от всего корпуса писем, письмо с вложением, посылкой от мертвой Марии за пазухой.
* * *
Все, довольно, он вернулся в Россию! Из топи Финского залива, точно из бездны иного времени (а разве не так? из русской бездны) поднимается город Кронштадт. Темный, сырой, угловатый — внешние углы крепости из-за малого размера города обратились внутрь и толкают прохожего то в бок, то в спину. В домах и на душе тесно.
Всех останавливаю, спрашиваю, единственно для того, чтобы говорить по-русски и слышать русских людей. Вы знаете, что трудно найти город хуже Кронштата, но мне он мил! Здешний трактир можно назвать гостиницею нищих, но мне в нем весело!
Карамзин вернулся; здесь помещение его языка, такое же, как Кронштадт, — темное и сырое, полурусское-полунемецкое и в целом какое-то хаотическое, но Карамзину уже ясно, чем осветить его, как связать этот хаос словом.
Еще неделя странствия, внутреннего, сухопутного; наконец движение сменяется долгожданным покоем — Карамзин в Москве.
Именно теперь его путешествие представляется «запредельным» — и ему самому, и нам, его читателям.
Первое впечатление в целом — ему явился сон. Почему так? Все было взаправду и живо. Вот в чем, наверное, дело — это о нашем, читательском впечатлении: мы судим о его поездке по «Письмам русского путешественника», а эти «Письма» так доброжелательно отстранены от тех мест, где он побывал, настолько тактичны и «бесконтактны» (тем более для нас, привычных к новейшему письму, прямо лезущему в душу, грубому и телесному), настолько по-хорошему сентиментальны, что в самом деле возникает ощущение, что, читая их, мы смотрим светлый сон. Без потрясений и страхов, как, впрочем, и особой радости, вообще — без острых ощущений.
Но эта гладкость, которая Карамзину свойственна, не должна никого обмануть: его путешествие было полно драматических перемен, поворотов маршрута и поворотов мысли, которые подразумевали истинные переломы — судьбы, жизненной перспективы, слова и сознания.
Тем более не было гладкости в тех обстоятельствах, в которых Карамзин оказался, вернувшись из-за границы. Началось преследование Новикова, разгром его просветительского (и политического) проекта. Тучи заволокли небо, гром загремел над головами, и посыпались злые молнии. В этих обстоятельствах нужно было сохранять голову холодной — просто: сохранять голову. Это сказалось на поведении Карамзина. Нет, он не спрятался, он вступился за Новикова и товарищей, однако прежние его взгляды и позиции неизбежно должны были подвергнуться редакции.