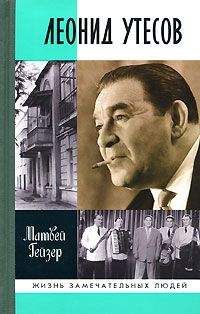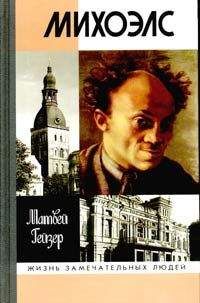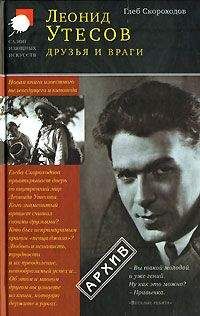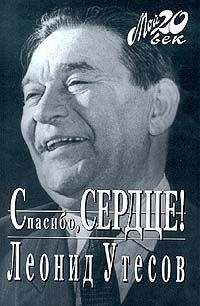Многое открыл для себя Утёсов в кременчугском театре. Он понял, что грим преображает не только внешность, но и самого актера. Уловил, быть может, самое главное: играя роль, надо воплощаться, превращаться, становиться героем, роль которого исполняешь, надо почувствовать его так, как будто ты и есть он. Вспоминая все это, Леонид Осипович напишет: «Наверное, вот тогда-то и начался во мне актер». Быстро осознал он и другое: так много работая над своими ролями в комедии, так серьезно относясь к этой работе, он еще не настоящий актер. «Но успех, свалившийся неожиданно на неокрепшую голову, чувство безграничной самоуверенности, еще больше укреплявшееся этим успехом, держали меня все время в каком-то приподнятом, взвинченном состоянии. Я не мог с собой совладать — меня распирало от счастья, от удовольствия, от гордости. Этому всему должен был быть какой-то выход — иначе я мог бы взорваться».
Еще раз напомню, что никакой актерской школы ко времени появления в кременчугском театре (да и после) у Леонида Осиповича не было. Хоть и были у него учителя — опытные актеры, режиссеры, гримеры, — но профессиональные педагоги, обучающие сценической речи, пластике, актерскому мастерству, никогда с ним не работали. Но так много сценического таланта было заложено в Утёсове природой, что многое у него получалось само собой. В дальнейшем жизнь подарила ему встречи с великими актерами, у которых он тоже учился. Больше других он запомнил трагика Мамонта Дальского: «Впервые я увидел его не на сцене, а в одесском артистическом клубе у карточного стола. Меня поразил его вид. При среднем росте он показался мне огромным. В лице было что-то львиное. Взгляд серых глаз и каждое движение были полны осознанной внутренней силы. В этом артистическом клубе крупная карточная игра велась в специальной, так называемой золотой комнате. Здесь на столе обычно возвышалась гора золотых монет, а люди напускным равнодушием прикрывали свой азарт. Нервные возгласы, растерянные лица, сосредоточенные взгляды, дрожащие руки, капли пота на склоненных лбах — это была великолепная иллюстрация к тому, как „люди гибнут за металл“».
Мамонта Викторовича Дальского Утёсов впервые увидел в Одессе. Актер этот произвел на Утёсова впечатление, оставшееся на всю жизнь. В особенности поразила игра его в спектакле Стриндберга «Отец». Наблюдая игру Дальского в этом спектакле — а смотрел он его несколько раз, — Утёсов уловил для себя, как важна для актера честность. Не натурализм, рабское копирование реальности, а именно честность в изображении человеческих эмоций. С тех пор он всегда старался быть честным со зрителями — и в пору создания «Теа-джаза», и при исполнении его знаменитых песен-спектаклей.
Но все это было позже, а сейчас вернемся в Кременчуг, на первую театральную родину Утёсова: «Мне было всего семнадцать лет, и соблазны жизни манили меня неудержимо, а тут еще мой веселый, общительный характер. И влюбчивость. Я влюблялся, мучительно влюблялся в красивых девушек, да еще, как на грех, и сам им тоже не был противен. Тем не менее я не мог себе представить, что не приду раньше всех на репетицию или не досижу до конца всех сцен всех актеров — не только в тех спектаклях, в которых я должен был играть, но решительно во всех…»
Быть может, главное, что познал Утёсов в кременчугском театре, — это радость творчества и желание доставить удовольствие, счастье зрителям. А провинциальные зрители — случай особый. Неслучайно у Фаины Георгиевны Раневской вырвалась фраза: «Лучшие мои роли я сыграла в провинциальных театрах». Для зрителей маленьких городов актер был воплощением большой жизни, протекающей где-то вдалеке. Наверное, прав был писатель Дон Аминадо (Шполянский), заметив в своих мемуарах: «Только в провинции театр любили по-настоящему». Эту мысль подтвердил в беседе со мной профессор Юрий Арсентьевич Дмитриев. «Сколько истинных, настоящих актеров играли на сценах театров в Ярославле, Казани, Костроме! Какие замечательные актеры были в Пскове, Двинске, Богородске! В провинции их так любили, что не мыслили жизнь без них», — сказал он мне однажды, когда мы были в Одессе в 1995 году на юбилейных торжествах, посвященных Утёсову.
Актерская школа, которую Утёсову довелось пройти в провинциальном кременчугском театре, до сих пор по-настоящему не изучена. К сожалению, многое пропало навсегда. Вот рассказ самого Утёсова о его участии в оперетте Фалля «Разведенная жена»: «Я играл незначительную роль сторожа суда. Когда все собрались перед спектаклем, режиссер Николай Васильевич Троицкий вызвал нас на сцену — такое бывало-только по случаю аврала. Мы с тревогой пришли на вызов. А он — бледный, растерянный — сказал:
— Господа! Что делать? Заболел Никольский (это был актер, исполнявший главную роль — кондуктора спальных вагонов Скропа). Спектакль должен начаться максимум через двадцать минут. Ни отменить, ни заменить его уже невозможно. Умоляю, кто может сыграть Скропа?
Все смущенно молчали. А во мне вдруг словно что-то завертелось, забилось, и роль мгновенно пронеслась у меня в голове. Неожиданно для себя я выпалил:
— Я могу!
— Вы-ы? — удивленно и недоверчиво повернулся ко мне Троицкий.
— А почему бы и нет? — сказала Анна Андреевна Арендс. Святая женщина, она неколебимо верила в меня.
— Вы разве знаете роль?
— Всю.
— И арии?
— И арии.
— И дуэты?
— И дуэты.
— И танцы?
— И танцы тоже.
— А ну, пройдите дуэт, — сказал Троицкий. И мы с Анной Андреевной тут же, под аккомпанемент концертмейстера, спели и станцевали дуэт „Он идет все за ней“.
— А ну-ка, трио.
Было исполнено и трио.
— Идите, одевайтесь, — сказал воспрянувший духом Троицкий.
Я быстро оделся и через десять минут вышел на сцену Скропом — в моей первой большой роли, вот так, без единой репетиции, на одном энтузиазме молодости с примесью некоторой доли нахальства.
Как я играл? — Этого я не помню.
Я словно забыл, что в зале публика, что я актер. Я был только Скропом. Словно четвертая стена Станиславского, о которой я тогда понятия не имел, отгородила меня от всего света, и я целиком оказался в таком причудливом, искусственном, но в тот вечер для меня таком естественном мире оперетты Лео Фалля. И если нужно определить одним словом мое тогдашнее состояние, то я определил бы его словом „восторг“. Вы можете добавить „телячий“ и, наверно, будете правы.
Зрители провожали меня аплодисментами, актеры за кулисами наперебой поздравляли. А суфлер по прозванию Пушок — за коротко подстриженные усы — сказал:
— В последний раз тебе говорю — крестись и поезжай в Москву».