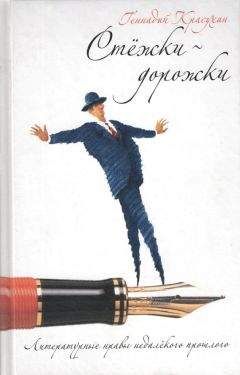Два её стихотворения мы напечатали: в конце концов, заведовал отделом не я, а Рощин. А я потом вспоминал его слова, когда наши танки вошли в Прагу, и небольшая группа смельчаков, в которой была Горбаневская, вышла с протестом против советской оккупации на Красную площадь.
Для Дня советской армии (23 февраля) мы с Мишей подготовили прекрасную подборку песенок Булата Окуджавы: «Старый король» («В поход на большую войну собирался король…»), «Ах, война, что ж ты сделала, подлая.», «А что я сказал медсестре Марии.», «Отрада», «Возьму шинель, и вещмешок, и каску.» Мы весело предчувствовали скандал, который начнётся, если нам удастся так отметить армейский праздник. Не удалось. В январе сняли Войтехова, и весь февраль его оставшиеся замы не пропускали никаких литературных публикаций. А в конце февраля председатель Радиокомитета Месяцев журнал разгромил.
По той же причине не появилась в журнале подборка стихов Геннадия Шпаликова с предисловием Андрея Тарковского. Рощин дружил с Тарковским, который приходил к нам в редакцию, выпивал вместе с нами и рассказывал байки из жизни геологов: сам работал геологом до своего прихода в кино. Любил Тарковский поэта Николая Глазкова, которого потом уговорил сыграть в своём фильме «Андрей Рублёв», и так часто декламировал нам стихотворение Глазкова «Примитив», что я запомнил текст со слуха. Не откажу себе в удовольствии привести отрывок:
Чтоб так же, как деревья и трава,
Стихи поэта были хороши,
Умело надо подбирать слова,
А не кичиться сложностью души.
Я по примеру всех простых людей,
Предпочитаю счастье без борьбы!
Увижу реку – искупаюсь в ней,
Увижу лес – пойду сбирать грибы.
Представится мне случай – буду пьян,
А не представится – останусь трезв,
И женщины находят в том изъян
И думают: а в чем тут интерес?
Но ежели об интересе речь,
Я примитивность выявлю опять: —
С хорошей бабой интересно лечь,
А не игру в любовь переживать.
Я к сложным отношеньям не привык,
Одна особа, кончившая вуз,
Сказала мне, что я простой мужик.
Да, это так, и этим я горжусь.
Мы подумывали и о том, как бы напечатать Колю Глазкова, бывали в его комнате на Арбате, где он нам читал свои стихи. (Могу, кстати, вообразить, как он бы обрадовался толстой чудесной книге о нём, которую написала дочь поэта Евгения Винокурова Ира.) Но, увы, и этим нашим планам не удалось осуществиться.
А что же удалось? Немногое. Я рассказывал об удачах в своих предыдущих книжках. Правда, то, что мы считали своими удачами, было, по мнению Месяцева, очень крупным идеологическим просчётом, диверсией! Выгнали не только нас с Рощиным и не только команду Саркисяна. Руководство Комитета не пожелало оставлять в журнале Колю Литвинова – изумительного художника, изобретательного выдумщика, лучшего оформителя печатной продукции из всех, кого мне довелось встретить в жизни. Что ж. Читатели ответили соответственно. Некогда притягивающий уже своей обложкой, журнал перестал их привлекать. И его перестали покупать.
По-разному складывалась моя судьба в те далёкие четыре года – от поступления в Комитет по кинематографии до зачисления в штат «Литературной газеты». Но из крайности в крайность не бросала. Показала мне (особенно в Госкино) разные варианты человеческой сервильности и человеческого упоения властью. И разные варианты человеческой одержимости любимым делом, человеческого достоинства и благородства.
В «Литературной газете» работало больше двухсот человек. Понятно, что такой большой коллектив не мог быть нравственно однородным. Были в нём и сотрудники, раболепно смотревшие на руководителей: «Ты начальник, я дурак!» И начальники, не любившие возражений: «Я начальник, ты дурак!» Но когда я пришёл в обновляющуюся газету, таких было меньшинство – и начальников, и сотрудников. На дворе стоял февраль 1967-го – больше полутора лет до нашей оккупации Чехословакии, чуть меньше года до избрания Дубчека первым секретарём чехословацкой компартии и чуть больше года до появления «Программы действий», объявившей о начале в этой стране реформ, смертельно испугавших брежневскую команду. Но уже прошёл XXIII съезд КПСС, пусть и не отменивший официально решений XXII, но начавший тихую, ползучую кампанию восстановления в стране сталинщины. Уже были осуждены на семь лет лагеря Синявский и на пять – Даниэль за публикации за рубежом своих антиутопий. И Сергей Михалков, тогдашний и будущий автор государственных гимнов, сочинённых на одну и ту же мелодию, уже удовлетворённо выдохнул: «Хорошо, что у нас есть органы госбезопасности, которые могут оградить нас от людей вроде Синявского и Даниэля». Уже подбирались к относительно независимому «Журналисту» Егора Яковлева, которого и сняли через год. Да что там! Уже наголову разгромили наш «РТ»!
Словом, атмосфера, в которой предстояло дышать коллективу реформирующейся «Литературной газеты» и отцу её реформ – первому заместителю главного редактора Виталию Александровичу Сырокомскому, была далеко не целительной. Скорее уж губительной для задуманных реформ. Тем не менее, как и в случае с Войтеховым, Сырокомскому многое удалось опубликовать из того, за что не взялся бы тогда не один орган печати. Порой читатели не верили собственным глазам, узнавая из газеты о безобразиях, которые творятся в железнодорожном ведомстве, или в Министерстве связи, или на крупных промышленных гигантах. Даже нашему отделу литературы, возглавляемому Юрием Буртиным, удалось напечатать ядовитую реплику на рассказ Б. Евгеньева, опубликованный в журнале «Москва».
Я начинаю хвастать? Да ничего подобного! Дело не в том, что и тогда мало кто знал писателя Б. Евгеньева, который входил в редколлегию «Москвы». И не в том, что рассказ был художественно никчёмен. Не на это обрушилась напечатанная у нас реплика, а на идеологическую подоплёку состряпанного Б. Евгеньевым сочинения. Она была строго выдержана в духе господствующей тогда идеологии и ничего, кроме одобрения, вызвать у властей не могла.
Речь шла о поездке некой туристической группы в Англию. О студентке, главной героине рассказа, которая оказалась в этой группе вместе со своими родителями и которая наморщила нос и насупила брови, едва коснувшись английской земли. Ну ничего, решительно ничего ей в этой стране не понравилось. Даже собственная родственница, одарившая её зимним гарнитуром из дублёнки, шапки, сапог и сумочки, – немыслимых в советской торговле вещей. (Любопытно, кстати, оформила ли родственница этот подарок официально, ведь по приезде назад советская таможня могла вещи изъять: купить на официально выдаваемую советскому туристу сумму хотя бы замшевую сумочку было делом совершенно невозможным!) Всё не нравится студентке, оказавшейся за рубежом. Персонал гостиницы приветлив с постояльцами? Это он услужливо-приветлив! Продавщицы ей улыбаются? Какая-то это ф аль ш и в ая улыбка! Впрочем, к одной продавщице она прониклась сочувствием. К той, что перепутала коробки с обувью, выдала героине чужую, а когда та пришла менять, то услышала строгий голос хозяина: дескать, мисс такая-то, это не первая на вас жалоба!