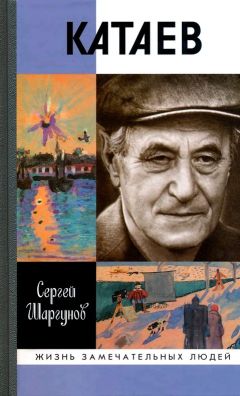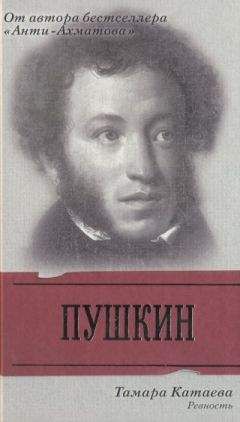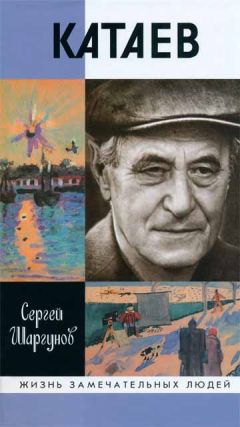Но рапповские нападки продолжались и дома. В 1985-м критик Александр Овчаренко в книге «Большая литература: Основные тенденции развития» разоблачал «замаскировавшегося»: «Экспериментальность в последних произведениях Валентина Катаева тотальна и соединяется с очень субъективным взглядом на действительность. По одному этому она не может не настораживать, так же, впрочем, как безудержные славословия в честь этих экспериментов Валентина Катаева со стороны непримиримых противников социалистического мира и социалистического реализма».
В январе 1986 года главред «Нового мира» Владимир Карпов в письме журналисту Борису Панкину по поводу его готовившегося в журнале эссе о Катаеве запрещал упоминание «Вертера», ссылаясь на руководителя Главлита Павла Романова: «Вы, наверное, в курсе дела по поводу того, что у нас произошло после публикации этой вещи? Если нет, напомню: о ней в печати не появилось ни одной строки и табу до сих пор не снято».
Тем временем Валентину Петровичу исполнилось восемьдесят девять.
Журналистка Валентина Жегис, приехавшая к нему в день рождения, рассказывала, что на ее поздравления он ответил:
— Ну что вы? Это же не круглая дата! Вот в будущем году…
Он хотел жить и жить…
Катаев не без самоиронии (и самодовольства) называл свою жизнь «чрезмерно затянувшейся».
«Уже тридцать три — и жизнь прошла!»…
В 1983-м говорил «Известиям»: «Я, признаться, собирался прожить лет до пятидесяти. Так и строил свои жизненные и литературные планы. А вышло — дольше».
«Было бы время, нашлись бы силы, прожил бы до ста пятидесяти и еще чуточку», — откровенничал, вампирически усмехаясь, с литератором Борисом Галановым.
И, ах, как жалко, честно говоря, что не прожили, Валентин Петрович!
Какую прекрасную (и неожиданную! какую? загадка!) литературу могли бы вы написать, пожив еще. Пускай не пятьдесят, хотя бы несколько лет…
«Иногда мне хочется поскорее стать стариком», — с детским задором поведал он в начале 1930-х сценаристу Александру Мачерету.
Он никогда не был взрослым, поэтому так и не состарился.
«В тот январский снежный вечер, — рассказывала Жегис, — мы сидели в уютной гостиной переделкинского дома, пили чай с именинным пирогом, приготовленным Эстер Давыдовной, а затем по скрипучей деревянной лестнице поднялись в его рабочий кабинет. Здесь царил все тот же порядок, тишина, привычные вещи — массивный письменный стол, напоминающий корабль, готовый к отплытию, лампа под матовым абажуром, чистые листы большого блокнота, на которых всегда писал Катаев».
В Катаеве, запомнил общавшийся с ним в ту зиму журналист Евгений Гильманов, «была та самая благородная простота, к которой люди идут всю жизнь и не так уж часто приходят. И еще в нем был какой-то чисто юношеский вызов быстротечному времени — в каждом его жесте, порывистом движении…».
В 1944 году Катаев написал:
Ах, какие сугробы
За окном намело.
Стало в комнатах тихо,
И темно, и тепло.
Я люблю этот снежный,
Этот вечный покой,
Темноватый и нежный,
Голубой, голубой.
И стоит над сугробом
Под окном тишина.
Если так же за гробом,
Мне и смерть не страшна.
Зимой 1986 года его увезли из Переделкина в Москву.
Проза Катаева — одно из оправданий жизни.
Понимайте, как хотите. Мне так кажется.
«У каждого человека в детстве — раньше или позже — всегда внезапно наступает миг, когда он со всей очевидностью начинает понимать, что он смертен и ему непременно когда-нибудь предстоит умереть, перестать существовать, жить, — мысль, к которой невозможно привыкнуть».
Катаев вспоминал страшный сон из детства: за ним долго со стуком гонялся гроб, он же — собственный скелет.
Пока не загнал наконец — «и со всех сторон в меня хлынула тьма». Проснувшийся навсегда повзрослел.
С конца 1970-х годов Валентин Петрович вел дневник. Последние годы каждый день концовка каждой записи: «Живу!»
С утра он записывал предыдущий день в простых характеристиках. Вот, например, 1 января 1986 года — о вчерашнем: «Ходил гулять с Эстер полтора часа. Дома читал прекрасного Заболоцкого. Приходил поздравлять с Новым годом Егор Исаев[163]. Мило побеседовали. Он объяснялся в любви. Вечером приехала Тиночка с мужем. Была встреча Нового года. Пили розовое шампанское. Я пил сок. Сидели у телевизора до 2–3 часов. Я лег спать около 3-х. Спал хорошо, с перерывами до 11 утра уже 1 января 1986 года. Мороз. Стекла замерзли. Солнце неясное. Сосульки с крыши. Красивая зима. Настроение среднее. Живу!»
«Мне стукнуло 89 лет. Это ужасно!» — написал он 28 января. А вот флэшбэк от 29-го: «День моего 89-летия. Погода мягкая. Но я не гулял, сидел дома, ничего не писал, читал гениальные стихи Бялика[164] в посредственном переводе Жаботинского[165]. Было много гостей, всё свои, родственники, обед. Шампанское (которое я не пил). Много цветов нанесли. Разошлись после 10, лег спать в 12… Уже около 11 утра 29-го. Стекла чистые, в лесу — снег. Настроение среднее. Живу!»
В феврале 1986-го на переделкинской даче затеяли капитальный ремонт.
Катаев с Эстер переехали в Лаврушинский.
Стресс переезда.
В кабинете были не заклеены окна. Всю ночь дуло. Он не мог уснуть. Не хотел никого беспокоить. Чувствовал, что поднялось давление. Пил капельки.
Из последних слов дневника:
«28 февраля, среда. Записываю вчерашний день, 27 февраля, четверг, Москва, Лаврушинский. Погода стала морозней. Суета с переездом. Гулять само собой не ходил. Ничего не писал, читал Распутина. Хорошо! Спал у себя в кабинете на диване. Замерз. Ночью проснулся от холода и давления. Кое-как поспал до 9. Укрылся теплым одеялом, стало терпимо. Уже 10 утра, за окнами Замоскворечье — новые огромные дома. Уже 28 февраля. Настроение среднее. Мороз. Живу!»
В тот день он был в квартире с внучкой. Позвал ее. «У меня не двигается левая рука. Плохи мои дела. Наверное, у меня инфаркт». Приехала «скорая». Это был инсульт.
Валентина Петровича поместили в ЦКБ («кремлевку»). «Он требует какого-то Диора», — удивленно сказали врачи. Просил цитрусовый одеколон «Eau Sauvage» от «Christian Dior», подаренный родными на 89-летие. Одеколон принесли, но его украл кто-то из медперсонала. «Флакончик-то шопнули», — с усилием шутковал пациент. «Вплоть до последних дней, — вспоминает Павел, — отец спускался к завтраку только после душа и китайской гимнастики, гладко выбритый и надушенный». Дедушкина комната навсегда запомнилась Тине сочетанием ароматов шкатулки из сандалового дерева и лавандового одеколона.