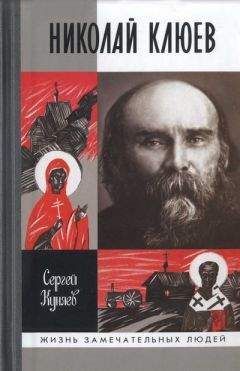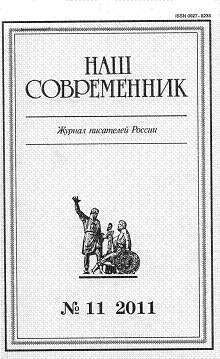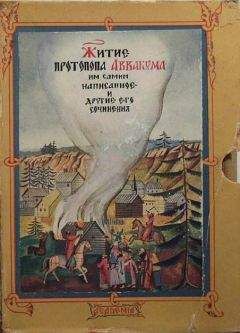Это письмо было написано перед очередным поворотом в его судьбе. 23 марта Клюев был арестован по обвинению в участии в «церковной контрреволюционной группировке» и заключён в местную тюрьму, где его разбил паралич. Отнялись левая рука и нога, закрылся левый глаз, да ещё настиг порок сердца. Лишь чудом каким-то выжил. Изъяты были стихотворения и поэмы, записанные уже в Томске.
В тюремной больнице он, возможно, вспоминал свои старые стихи буйных революционных лет.
В китовьем жиру увязают и пули,
Но страшен поэту петли поцелуй;
Меня расстреляют в зелёном июле
Под плеск осетровый и жалобы струй…
Никто не узнает вождя каравана
В узорном бурнусе на жгучем коне…
Не вётлы России, а розы Харана
Под смертным самумом вздохнут обо мне!
Но и в этот раз ему удалось избежать пули…
Дело № 12 264 не сохранилось. Известен лишь документ об освобождении 4 июля «ввиду приостановления следствия… ввиду его болезни — паралича левой половины тела и старческого слабоумия». Слова о «приостановлении следствия» в донесении Управления НКВД по Запсибкраю были зачёркнуты составившим донесение капитаном НКВД Подольским. Явно раскручивалось очередное групповое дело, в этот раз не докрученное до конца.
Возможно, сыграло свою роль в освобождении поэта обращение Ростислава Ильина к Екатерине Павловне Пешковой, которая снова помогла опальному поэту. Весной Ильин получил научную командировку в Москву и Ленинград, в Москве был у Надежды Христофоровой-Садомовой, которой передал «Очищение сердца» и рассказал о бедственном положении Николая, и написал письмо в Политический Красный Крест:
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна.
Поэт Николай Алексеевич Клюев в марте арестован в Томске (где он отбывал ссылку), у него был удар, отнята левая сторона, и он сразу был переведён в тюремную больницу. В чём он обвиняется, — неизвестно. Во всяком случае, ему не может быть предъявлено обвинение в порочном поведении. Одновременно с ним арестованы епископ и др(угие) церковники.
Клюеву в его исключительно тяжёлом положении могло бы помочь личное заступничество А. М. Горького…»
Трудно сказать — обращалась ли Екатерина Павловна к Горькому, который мог поговорить напрямую с Ягодой, что был завсегдатаем в его доме — или действовала сама. Так или иначе Клюев в июле вернулся под свой негостеприимный кров в совершенно разбитом состоянии.
Из письма Надежде Христофоровой-Садомовой после освобождения: «…С марта месяца я прикован к постели. Привезли меня обратно к воротам домишка, в котором я жил до сего, только 5-го июля. Привезли и вынесли на руках из телеги в мою конуру. Я лежу… лежу. Мысленно умираю, снова открываю глаза — всегда полные слёз. Из угла смотрит мне в сердце „Страстная“ Владычица, Архангел Михаил на пламенном коне низвергает в пучину Вавилоны, Никола Милостивый в белом омофоре с большими чёрными крестами, с необыкновенно яркими глазами, лилово-агатовыми, всегда спасающими. В своём великом несчастии я светел и улыбчив сердцем… Теперь я калека. Ни позы, ни ложных слов нет во мне. Наконец, настало время, когда можно не прибегать к ним перед людями, и это большое облегчение. За косым оконцем моей комнатушки — серый сибирский ливень со свистящим ветром. Здесь уже осень, холодно, грязь по хомут, за дощатой заборкой ревут ребята, рыжая баба клянёт их, от страшной общей лохани под рукомойником несёт тошным смрадом, остро, но вместе нежно хотелось бы увидеть сверкающую чистотой комнату, напоённую музыкой „Китежа“, с „Укрощением бури“ на стене, но я знаю, что сейчас на берегу реки Томи, там, где кончается город, под ворохами ржавых осенних листьев и хвороста найдётся и для меня место…»
Ещё один, последний и редкостный дар, последнее сокровище в жизни было даровано ему на этой земле, удивительная находка, которой он сподобился посреди тяжелейшего быта, в невыносимой атмосфере пьяных скандалов и нескончаемых попрёков в своём временном пристанище.
Из письма Надежде Христофоровой-Садомовой от начала октября 1936 года: «Горе мне, волу ненасытному! Всю жизнь я питался отборными травами культуры — философии, поэзии, живописи, музыки… Всю жизнь пил отблеск, исходящий от чела избранных из избранных, и когда мои внутренние сокровища встали передо мной как некая алмазная гора, тогда-то я и не погодился. Но всему своё время, хотя это весьма обидно.
Я сейчас читаю удивительную книгу. Она писана на распаренной берёсте китайскими чернилами. Называется книга „Перстень Иафета“. Это не что другое, как Русь 12-го века до монголов. Великая идея святой Руси как отображения церкви небесной на земле. Ведь это то самое, что в чистейших своих снах провидел Гоголь, и в особенности он, единственный из мирских людей. Любопытно, что в 12-м веке сорок учили говорить и держали в клетках в теремах, как нынешних попугаев, что теперешние черемисы вывезены из Гипербореев, т. е. Исландии царём Олафом Норвежским, зятем Владимира Мономаха. Им было жарко в Киевской земле, и они отпущены были в Колывань — теперешние вятские края, а сначала содержались при киевском дворе как экзотика. И ещё много прекрасного и неожиданного содержится в этом „Перстне“. А сколько таких чудесных свитков погибло по скитам и потайным часовням в безбрежной сибирской тайге?! Пишу Вам в редкие минуты моей крепости телесной…»
Клюев, читая берестяную книгу, видимо, прямо связывал описанные в ней события с исторической Гипербореей, охватывавшей Русский Север, Скандинавию и Исландию, — праматерью мировой культуры. Иафет — имя третьего сына Ноя, разделившего землю после Всемирного потопа со своими братьями Симом и Хамом. А гиперборейцы — его прямые потомки.
Поистине, сколько погибло таких чудесных свитков! Погибла, очевидно, безвозвратно и найденная Клюевым книга, и мы уже не в состоянии подтвердить или опровергнуть соображения, касающиеся ныне, увы, лишь пересказа одного сюжета в нескольких строках клюевского письма.
«По улице не хожу, больше лежу», — пишет он Варваре Горбачёвой. Единственное, что ещё спасает, — книги. Беда, что изъято многое и не возвращено, но и память кое-что сохранила. Он цитирует в своих последних письмах Феогнида, Романа Сладкопевца, Метерлинка, Иоанна Кронштадтского… Получает, наконец, письмо от Анатолия, пьяного своими успехами, и пишет пронзительный ответ: «Ты знаешь мои чувства на все случаи твоих триумфов или утрат, поэтому воздерживаюсь их повторять. Слишком я болен и слаб, чтобы в тысячный раз уверить тебя в моей любви и преданности к тебе. Не требуй у жертвы, когда над ней уже поднят топор, сладких клятв и уверений. Твою укоризну, что я тебя забыл, сердце моё принимает только лишь как кокетство. Это вполне понятно в твои годы и в твоём нынешнем положении… Радостной теплотой полнится моё сердце от твоих слов: „Мир и красоту своего жилища я ценю выше всего“. Я позволяю себе вместе с великим Вальтер Скоттом сказать: жилища, в котором живёт и благоухает Книга Книг — Библия! Хотя найдётся много пингвинов, тюкающих, что полёт орла к солнцу есть „упадничество“ и что внешний линолеумный комфорт — есть могучая жизнь. Дитя моё незабвенное — поторопись милостыней!..»