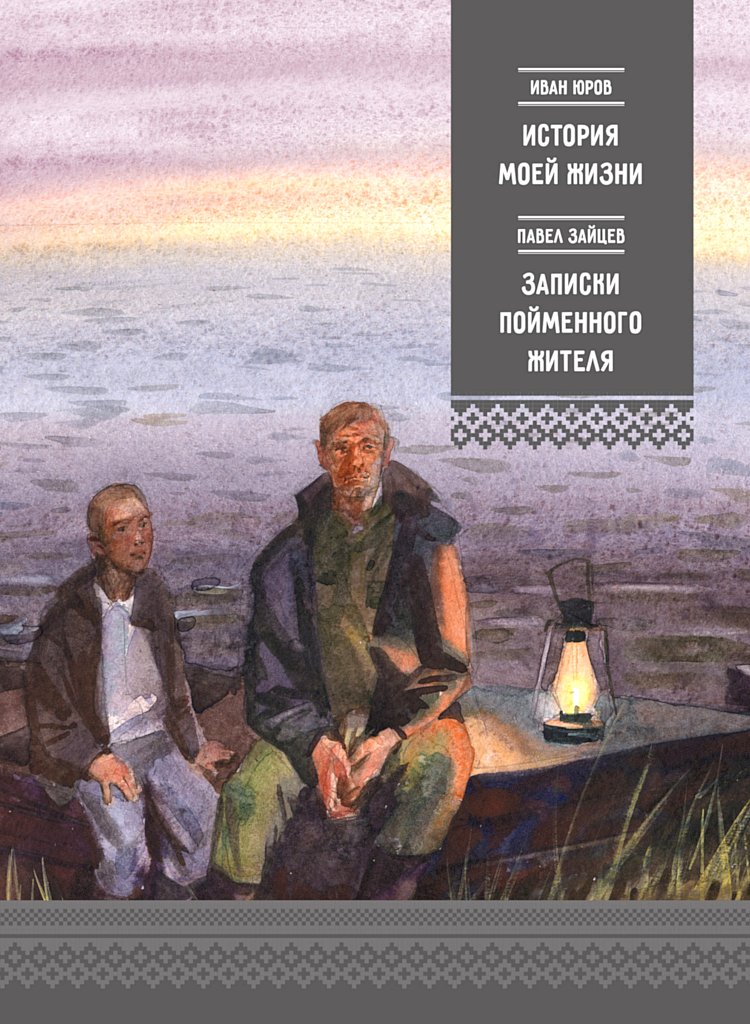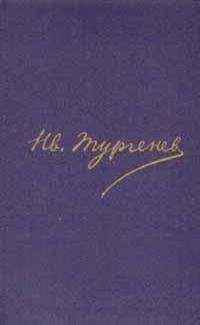Вдоль по линии Кавказа, где сизой орел летал…
Песня была непременным атрибутом свадебных застолий, она уводила гостей в свой особый мир. Как, впрочем, и горячая, удалая свадебная пляска. Гармонист всегда с удовольствием откликался на просьбы весёлой компании сыграть ту или иную песню или танец, был одним из главных гостей на свадьбе. Ему подносили чарочку за чарочкой. Бывало, изрядно захмелевший, он клевал носом, терял свой музыкальный слух, плохо владел пальцами уже непослушных рук, а все равно, полузакрыв глаза, играл и играл, как уж Бог на душу положит. Зато от души и «во всю ивановскую».
Начнёт такой хмельной гармонист плясовую. Выскочит баба на круг — широкобёдрая, крепкая, в наборчатом платье, отдувающемся на бедрах, как сноп суслона на ржаной полосе, с белыми ногами, открытыми пониже коленей. Только начнет плясать, тут гармонист и сбейся с мелодии. Услышит баба враньё и переходит на задиристую частушку:
Гармонист, гармонист — коротенькая шейка, если взялся ты играть, играй хорошенько!
Гармонист приободрится, голову поднимет, плечи расправит, заулыбается и начнет играть правильно.
Четыре, пять дней длились наши пойменские свадьбы. Пили, ели, плясали на них не только непосредственные гости, родственники жениха и невесты. На свадьбы был вход всем свободный — заходи, веселись — в доме праздник. Так что в свадебный дом за четыре-пять дней много захаживало народу. Бывало, в избе, где гулялась свадьба, одной верхней одежды набиралось столько, что все стены входного прикутка, все его углы и свободные места были завешаны и заложены ею. Да не в один ещё ряд. На полу оставалась одна узенькая дорожка, чтобы было можно войти или выйти из избы.
Для сопливой ребятни свадьбы были большим событием. Вся дальняя и близкая курносая маленькая родня с печи глазела, как веселятся старшие.
Первые два или три дня свадьба гулялась в доме родителей жениха. Потом на два дня переходили или уезжали (если невеста не местная) в дом родителей невесты.
Вереница лошадей мчалась вдоль домов жениховой деревни, выезжала за околицу и, поднимая снежные вихри на полевой дороге, скрывалась из виду. Из невестиной деревни такой кортеж всегда сопровождала вездесущая ребятня, вслед лаяли собаки, а из окон провожали взгляды любопытных баб. С облучков и задков свадебных повозок, узорчато пятнясь, свисали самодельные коврики. Под расписными дугами звенели валдайские колокольчики.
В невестиной избе дня два продолжалось то же, что происходило накануне в жениховой. Гулять можно было много дней, но уж пяти дней всегда хватало. Гулять пойменские люди прекращали не потому, что время к тому подходило по обычаю, а просто потому, что уставали уже петь, плясать, балагурить: уже хотелось на покой, отдохнуть от шума, гвалта, питья, еды, танцев, песен.
По всей пойме свадьбы почти всегда устраивались зимой, и именно в Святки. Так уж оно исстари повелось, само собой, по целесообразности. Лучшего времени для свадеб не выбрать. Это было время, когда, покрытая толстой пеленой снега, земля освобождала крестьян от полевых работ, а трескуны-морозы наводили крепкие мосты на все водоёмы. В Святки можно было на лошадях проехать где хочешь и куда хочешь.
В святочное время гулялось по всей пойме так много свадеб, что в иные дни в одной и той же деревне их приходилось сразу по нескольку. Бывало, даже создавались трудности при переездах свадебных подвод: на узких полевых дорогах встретятся два разных свадебных кортежа, так едва разъедутся.
До революции молодые непременно венчались в церкви. А уж в тридцатые годы некоторые женихи и невесты нет-нет, да и уклонятся от соблюдения Божьего обряда, не желают поститься да венчаться. Старики переживали это очень болезненно [537].
Помимо свадеб, жители поймы отмечали и другие праздники. Правда, надо сказать, что за двадцать три года существования поймы при Советской власти её обитатели никогда не отмечали такие новые праздники, как день Октябрьской революции и Первое мая. Не прижилось это в наших краях, что вполне объяснимо. Ведь Молого-Шекснинская пойма находилась далеко «на отшибе», здесь не было ни одного более-менее крупного культурно-промышленного пролетарского центра, ни одной регулярно работающей партийной ячейки. Так что советская пропаганда к нам поступала скупо. Если взять центр поймы, то от него до ближайшего железнодорожного узла — до станции Некоуз — было под восемьдесят вёрст. Самый ближний промышленный город Рыбинск находился на таком же расстоянии от наших мест. Все новости о послереволюционной жизни в России пойменские жители узнавали обычно зимой, когда междуреченские мужики отправлялись по зимним дорогам на базары торговать сено, рыбу, сани и другой свой товар. Тут, как говорится, земля наша слухами и полнилась.
У нас все новшества Советской власти внедрялись как-то по касательной. Может быть, потому, что в основном жизнь в пойме кардинально не менялась. Ну, упразднили в конце двадцатых годов уезды и волости, образовали районы, а внутри них — сельские Советы. Их обязанность была — заготовки для государства продуктов земледелия да животноводства через сельхоз-кооперацию. Еще — собирали налоги да страховки с крестьянских дворов. Но никакой оголтелой агитации не наблюдалось.
И коллективизация прошла спокойно. Не так, как, скажем, на Дону, Кубани, Украине, в черноземных областях России. Организовали колхозы — на этом вся просветительская работа среди населения поймы и закончилась. Фанатики-агитаторы к нам не приезжали.
Школы были только в больших сёлах. Да и там интеллигенции было раз, два — и обчелся: кроме учителей-одиночек никакой тебе интеллигенции. А уж среди жителей наших отдалённых пойменских деревень и тем паче её не наблюдалось.
За двадцать лет жизни в пойме на моей памяти был лишь один случай, когда в середине тридцатых годов к нам на хутор,