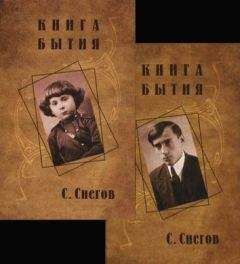Впоследствии, уже по совсем другому поводу, я написал стихи, где изобразил этот призрачный мир. Они очень понравились моему другу Льву Гумилеву — правда, он воспринял их как факт философии, а не как результат нападения малярийных плазмодиев.
Вселенная играла дикий туш.
И, распадаясь, стал всем миром в сумме я.
Безумие — всесопричастность душ.
Так вот — то было, видимо, безумие.
На другой день после приступа я чувствовал себя совершенно здоровым — нормально разговаривая, нормально мыслил, нормально работал.
Впрочем, то, чем я занимался после увольнения из облоно, нормальной работой назвать трудно.
Тогда я впервые понял, насколько справедлива поговорка «Мир не без добрых людей». Легко быть хорошим, если тебе это ничего не стоит, — но, собственно, о какой особой доброте можно здесь говорить? В моем случае все было по-другому.
Я остался без работы. Пойти рабочим на завод мешали и гонор, и малярия. В Ленинграде Фира с дочерью ждала денег — а у меня их не было даже на еду. Мной медленно, но неотвратимо овладевало худшее из отчаяний — отчаяние неотвратимости.
Мне помог человек, с которым я не был знаком (я только слышал о нем), — Полевой, муж моей бывшей сослуживицы, директор центральной научной библиотеки Одессы. Наверное, его попросила жена, — она всегда ко мне хорошо относилась. Он неожиданно озаботился образованием своих сотрудников — и организовал курсы повышения знаний, пригласив единственного преподавателя — меня. Собственно, в этом не было ничего удивительного: такие ликбезы устраивались на многих предприятиях, но читали на них лишь идеологические и политические предметы — правительство было уверено, что только они стоят затраченных денег. Но идеология и политика были мне запрещены. А физику, математику и биологию библиотекари знали и без меня — все они имели среднее, а некоторые и высшее образование.
Полевой придумал единственный предмет, совершенствование в котором хотя и не было необходимым, все-таки могло пригодиться — занятие им не попадало под запрет свыше. Это была физическая география. Я, естественно, не был в ней специалистом — но не боги горшки обжигают, тем более Полевой подобрал для меня хорошие книги — и специальные трактаты, и ходовые учебники.
На некоторое время я был избавлен от угрозы голода — я даже смог кое-что послать Фире.
Но с нового года созданные специально для меня (во всяком случае, так мне сказала Полевая) курсы прекратили свое существование. Я снова — и уже окончательно — стал безработным.
Не знаю, почему я не попытался устроиться в школу (я собирался это сделать еще во время первого шельмования). Возможно, в середине учебного года не было вакансий. Может быть, мешала малярия: все-таки трудно вести урок при температуре за сорок.
Я снова вернулся к мыслям о литературе, написал большой кусок повести «Пионеры» и начало давно вымечтанного романа о Варламове. Но какими бы сильными ни были страницы, повествующие о том, как голодала моя страна, проблему моего личного голода они решить не могли. К тому же до первого появления в печати моей писанины оставалось двадцать с лишним лет (я, конечно, этого не знал — и все же…), а есть хотелось уже сегодня.
Экклезиаст утверждал, что за временем разбрасывания камней приходит время их собирать. Я решил подойти к этой проблеме с другой стороны. За моими плечами были пять лет усердного собирания книг — пришла пора отделываться от собранного. Я зачастил в комиссионные магазины.
На продажу были предназначены самые дорогие книги. Не для меня дорогие, разумеется (эти я оставлял) — дензначно. Роскошные издания Брокгауза, полные собрания великолепно иллюстрированных сочинений Шекспира, Шиллера, Пушкина, обоих Толстых. Я расставался с ними без особой боли — на моих полках стояли те же самые стихи, пьесы и романы, просто изданные куда скромней. Я, конечно, был усердным книголюбом — но отнюдь не библиофилом, я читал книги, а не любовался ими. Ни редкость издания, ни роскошь оформления меня не покоряли — только содержание.
Ко времени перехода на книжную диету у меня дома собралось больше двух тысяч томов. Моя библиотека похудела на несколько сотен из них — и тем спасла от отощания своего хозяина. Я, конечно, не наедался — но и не голодал. Малярия изнуряла меня гораздо больше.
Позже я убедился, что первооткрывателем не был. Мой лучший редактор, умнейший и милейший Федор Маркович Левин (до войны — создатель издательства «Советский писатель», член партии с 1918 года), в конце сороковых был объявлен чуть ли не главарем космополитов без роду и племени (иными словами — интеллигентных евреев-гуманитариев). Больше трех лет он ходил в безработных, его семья существовала благодаря обширной (не чета моей!) библиотеке. И многие из тех, которые публично клеймили и позорили Федора Марковича, тайком пробирались в букинистический магазин, куда он сдавал свои сокровища, чтобы попользоваться от его безысходности.
Помню еще один драматичный случай «книжного существования».
Это было в сентябре 1948 года. После освобождения я приехал в Москву и встретился со своим норильским другом Виктором Красовским (он тоже недавно освободился), в прошлом — юным любимцем Бухарина, в будущем — многолетним (до самой смерти Алексея Николаевича Косыгина) консультантом предсовмина по экономическим вопросам. Мы шли мимо Ильинских ворот, когда к Виктору кинулась высокая худая женщина. В руках у нее была авоська с кипой книг. Не выпуская ее, женщина обнимала и целовала Виктора и радостно твердила: «Витя, ты! Живой, здоровый! А мы все думали, что тебя разменяли[153] — ведь никаких известий!» Виктор отвечал, что работает в Норильске, а не писал потому, что тем, кто остался на воле, такая переписка могла грозить неприятностями.
Я отошел в сторону, чтобы не мешать. Впрочем, они говорили так громко, что я слышал каждое слово.
— А ты что делаешь? — спросил Виктор.
— А что мне делать? — ответила женщина. — На работу меня нигде не берут, не та фигура. Постепенно распродаю папину библиотеку. Ты помнишь, наверное, как он ей гордился. Сейчас иду в букинистический магазин, он недалеко от моего дома. — Она показала на известный всей Москве книжный магазин у Ильинки, за технологическим музеем. — Денег от сегодняшней продажи хватит на неделю. Уже не один год так живу.
/Пропущенная иллюстрация: С. Снегов, 1949 г./
— И долго это продлится?
— Остатков папиной библиотеки хватит на пару лет. А дальше — как получится.