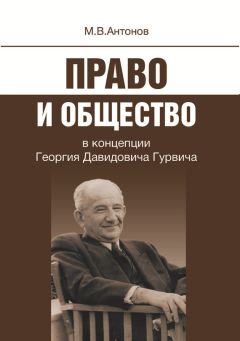Поскольку сам Бергсон остается здесь в сфере чисто феноменальной, то его ответ Зенону, кажется, «зависает в воздухе»: ведь Ахиллес проходит реальное расстояние, в котором можно выделить определенные величины, а длительность и движение, по Бергсону, – духовны. Конечно, это не те время и движение, с которыми имеют дело естественные науки и математика. Но как раз это Бергсон и хочет сказать. С его точки зрения, механика, измеряя скорость движения, просто констатирует одновременности, и для нее в ее сфере это вполне удобно и оправданно; математика тоже поступает, как ей подобает, когда определяет одновременные положения Ахилла и черепахи. Но вот когда математика пытается установить то, что происходит в промежутке между двумя одновременностями, когда механика претендует на знание движения, это значит, что они выходят за установленные для них пределы, поскольку им дано знать только одновременность и неподвижность. «Лучшим доказательством того, что наука не учитывает самого интервала длительности, служит тот факт, что если бы все движения во вселенной стали совершаться в два или в три раза быстрее, наши формулы и входящие в них элементы не изменились бы. В нашем сознании было бы неопределимое и, так сказать, качественное впечатление от перемены, но вне нашего сознания ничего не изменилось бы, ибо число одновременностей в пространстве оставалось бы прежним» (с. 100). Длительность и движение, будучи не вещами, а мысленными синтезами, не могут быть измерены, охвачены уравнением, не имеют ничего общего с линией и числом. Вот пространство – дело другое; оно как раз предстает в науке как непрерывное, однородное и бесконечно делимое, и такая идея ничем по существу не отличается от представления обыденного сознания.
Мы видели, что при обосновании своей позиции Бергсон часто прибегает к одному и тому же приему: чтобы объяснить, как образуются ложные представления о реальности, он показывает, что в них, как правило, смешиваются два компонента, различные по природе. Так, в идее интенсивности психологических состояний смешиваются количество и качество, в обыденных представлениях о времени – длительность и протяженность, в идее движения – интенсивное ощущение подвижности и экстенсивное представление о пройденном телом пространстве. С точки зрения Бергсона, выявление подобных «эндосмосов» (результатами которых становятся, по определению Ж. Делёза, «плохо проанализированные композиты»[142]), разделение двух смешанных элементов дает возможность понять суть исследуемого явления, а тем самым и истоки возникающих из такого смешения псевдопроблем. С этим приемом мы встретимся еще не раз – он станет существенной частью бергсоновской методологии.
Выяснив рассмотренные выше моменты и обосновав таким образом введенное им понятие истинной длительности, Бергсон обращается к собственно психологии, к исследованию внутренней жизни души, чтобы рассмотреть, какой она предстанет с этой новой позиции. Чтобы действительно понять сознание, утверждает он, следует удалить из представления о длительности все пространственные коннотации, поставить заслон идее пространства, которая постоянно «контрабандой вторгается» в представления обыденного сознания. В его концепции сознания, оппозиционной теориям, господствовавшим в психологии его эпохи, длительность, психологическое время описано как феномен по преимуществу динамический, как развитие, процесс. В сознании невозможно повторение прежних состояний, как невозможна и остановка потока впечатлений, выделение в нем того или иного стабильного состояния, – иначе неизбежны, как Бергсон писал позже, idee fixe и помешательство. Ведь каждый момент временной последовательности (выделяемый лишь условно) приносит с собой нечто новое, в ней не существует тождественных, повторяющихся моментов. В личности непрерывно что-то меняется, поскольку новые впечатления, ежеминутно накапливаемые в ее памяти, делают саму ее иной, не равной той, какой она была мгновение назад. Именно в силу того, что прошлое благодаря памяти сохраняется в настоящем, длительность необратима', прошлое постоянно по-новому взаимодействует с настоящим (эту идею Бергсон детально разъяснит в «Материи и памяти»), В этом и заключена творческая сила последовательности – конкретной, а не абстрактной и однородной. Конечно, в философии задолго до Бергсона было замечено, что время связано с последовательностью, что настоящее постоянно приходит на смену прошлому, а будущее – настоящему. Но Бергсон, рассматривая временную последовательность как взаимопроникновение прошлого и настоящего, как синтез, в котором ничто не исчезает, высказал очень важную мысль, ставшую, как мы увидим, центром его представлений о свободе и детерминизме, эволюции и истории.
О двух «я». Проблема языкаДлительность как «ткань психологии жизни» определяет своеобразие каждой личности, взятой в се историческом становлении, развертывании ее духовных сил и возможностей. В сознании выделяются различные пласты, оно выступает как многослойное, и глубинные слои его, подчеркивает Бергсон, характеризуют именно индивидуальность человека, то, что делает из него уникальную личность: «…наша поверхностная психическая жизнь развертывается в однородной среде, причем этот способ представления нам дается без труда. Но символический характер этого представления становится все более очевидным по мере того, как мы проникаем в глубины сознания: внутреннее “я”, чувствующее, волнующееся, – “я”, которое рассуждает и колеблется, есть сила, состояния и модификации которой глубоко пронизывают друг друга и подвергаются коренным изменениям, как только мы их разделяем, чтобы расположить в пространстве. Но поскольку это глубокое “я” составляет одно целое с поверхностным “я”, нам по необходимости кажется, что оба “я” имеют одинаковую длительность» (с. 104). Так возникает в бергсоновской философии тема глубинного и поверхностного, связанная, как можно предположить, с переосмыслением идей Августина о внутреннем человеке, учения Канта об интеллигибельном и эмпирическом «я», хотя Бергсон по иному принципу разграничивает уровни сознания.
Итак, лишь глубокое «я» подлинно, а поверхностное, строго говоря, – уже не «я», а только его суррогат. Однако человек живет в обществе, и эта жизнь практически более важна для него, чем его собственный внутренний мир, движения его души. Поверхностные слои сознания как раз и обусловлены нуждами социальной жизни, потребностями общения и, соответственно, необходимостью общих понятий и языка, где на первый план выступает уже не индивидуальное, личностное, а безличное и общезначимое. «Влияние языка на ощущение глубже, чем обычно думают… Резко очерченное, грубое слово, накопляющее в себе устойчивые, общие и, следовательно, безличные элементы наших представлений, подавляет или, по меньшей мере, прикрывает нежные, неуловимые впечатления нашего индивидуального сознания» (с. 107). Бергсон делает здесь одно интересное уточнение: говоря о том, что раздельная множественность числа не имеет ничего общего с качественной множественностью сознания, он поясняет, почему нам трудно выразить их различие в языке: «Так, мы сказали, что многие состояния сознания организуются в единое целое, взаимопроникают, все более и более обогащаются… но самим словом “многие” мы уже изолируем эти состояния друг от друга, вненолагаем их друг другу и размещаем в ряд в пространстве. Уже само выражение, которым мы пользуемся, вскрывает глубоко укоренившуюся у нас привычку развертывать время в пространстве» (с. 103), поскольку именно вторжение в сознание идеи пространства приводит к тому, что поверхностные слои сознания разделяются на части, внеположные друг другу. А между тем в глубине они не могут быть разделены: ведь взаимопроникновение состояний сознания означает, но Бергсону, что каждое из них причастно целому и всем другим состояниям, так что это подлинный синтез, организация, и разделять в таком случае означает «резать по живому».
Но если основные термины, при помощи которых человек выражает состояния своей души, уже «запятнаны первородным грехом» и представление о качественной множественности «не может быть передано языком здравого смысла» (там же), то как же его тогда передать? Значит, тут нужен какой-то другой язык? Так начинается бергсоновская критика языка, причем критика не только в обычном понимании, но и в кантовском смысле – как исследование, предполагающее установление границ, четкое выявление сферы применимости той или иной способности, понятия и т. п. Эта сторона концепции Бергсона в известной мере сближает его с последующей лингвистической философией, в частности с Л. Витгенштейном[143]. И в других работах он будет постоянно возвращаться (затрагивая как сферу обыденного языка, так и языка науки) к проблеме выражения длительности, глубинных уровней сознания. Любая «кристаллизация» ощущений и впечатлений, попытка остановить текучую длительность, выразить нечто общее для многих людей – а следовательно, безличное – приводит к искажению. Особенно очевидно это в сфере человеческих чувств, поскольку именно сильным чувствам свойственно охватывать всю человеческую душу и они наименее доступны передаче, внешнему выражению. Сам этот факт давно известен, здесь Бергсон в общем ничего нового не говорит; важно, как он это объясняет. «Существует тесная корреляция между способностью представлять себе однородную среду, такую как пространство, и способностью мыслить посредством общих идей. Как только мы пытаемся отдать себе отчет в состоянии сознания, анализировать его, – это в высшей степени личное состояние разлагается на безличные, внеположные элементы, каждый из которых представляет собой родовую идею и выражается словом… Каждый из нас по-своему любит и ненавидит, и эта любовь, и эта ненависть отражает всю нашу личность. Но язык обозначает эти переживания одними и теми же словами… Уже одним тем, что мы разговариваем, ассоциируем одни представления с другими, рядополагая их, мы лишаемся возможности полностью выразить то, что чувствует наша душа, – ведь мысль несоизмерима с языком» (с. 121–122). Возникает парадоксальная ситуация: ведь, доведя эту идею до логического конца, можно было бы сказать, что и Бергсон не вправе рассуждать о том, о чем рассуждает, т. е. о состояниях, о данных сознания, поскольку какое-либо выделение, расчленение, обособление их невозможно и язык немедленно искажает любую его мысль.