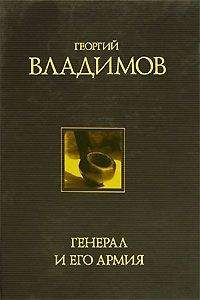В одиннадцать утра вынырнул из метели всадник, делегат связи, и доложил: Белый Раст взят, танки Рейнгардт не двинул.
Генерал не спешил что-либо сказать на это. Потому что известие ровно ничего не значило или почти ничего, он это понял в ту же минуту, как услышал. Больше хлопот доставляет противник, когда чего-то не делает, что, казалось бы, должен сделать, чем когда он действует — и можно оценить его действия и предсказать следующие. Не примирился, но и не двинул — потому ли, что не смог? Или какой-то иной был у него расчет, и отдать этот Белый Раст даже входило в его планы?
Делегат связи ждал, свесясь с седла и отогнув ухо на ушанке.
— Узнай-ка, — сказал генерал, — чей престол у этой церкви.
Лицо делегата не выразило удивления — но лишь оттого, что залубенело на ветру.
— Вопрос понятен?
Делегат вопрос повторил, но спросил, в свой черед, где это можно узнать.
— Об этом у начальства не спрашивают.
— Виноват, товарищ командующий. У кого прикажете узнать?
Генерал, одним краем рта, усмехнулся этой армейской хитрости.
— У любой бабки в деревне, на тридцать верст окрест. И можешь не проверять.
Делегат, взмахнув валенками, дал стремя коню и исчез в метели. Покуда он не вернулся, ни о чем существенном не было сказано ни слова, как будто ждали известия самого важного и главного.
— Узнал, товарищ командующий. И не у бабки, а у самого отца Василия в Лобне. Полагаю, оно надежнее.
— Так чей же престол? — спросил генерал нетерпеливо.
— Мученика Андрея Стратилата.
— И с ним?
Делегат связи смотрел отупело и медленно багровел.
— Одного Стратилата он тебе назвал? А сколько же было вместе с ним убиенных?
— Виноват, вот число запамятовал.
— Две тысячи пятьсот девяносто три?
— Точно!
Все посмотрели на окаменевшее лицо генерала, непроницаемо поблескивавшее очками.
— Это имеет какое-нибудь значение? — спросил, улыбаясь, начальник артиллерии, низкорослый и толстенький, но ужасно воинственный в своих скрипучих ремнях, с «парабеллумом», оттягивающим пояс, и с биноклем на груди. Фамилия у него была — Герман. Многие начальники артиллерии любят носить фамилию Герман.
— Значения никакого, — ответил генерал. — Кроме того, что это мой святой. И моего отца тоже.
— А Стратилат — это что значит? — спросил начарт. — Фамилия?
— Ты, конечно, безбожие исповедуешь? — генерал на него покосился насмешливо-добродушно. — Ну, а я, грешным делом, немножко верую. Теперь же это не возбраняется? — и, широко, даже несколько театрально, себя перекрестив замерзшей огромной кистью, сложенной в троеперстие, ответил на вопрос начарта: — Стратилат значит полководец, стратег.
— О, тогда это имеет значение. И очень большое. Разрешите поздравить?
— С чем же? Ведь мученик.
— Э! — сказал начарт. — А мы не мученики?
Начарт не знал, но генерал знал страшную историю Андрея Стратилата, преданного и убитого, со своим отрядом, теми, для кого он добывал свои победы. Предзнаменование было скорее ужасное по смыслу. «Значит, буду ранен», — решил генерал, но, не слишком устрашась будущей боли, понял, что этим лишь хотел бы отодвинуть худшее. Но ведь прежде, подумал он, Стратилат одерживал победы, а уж потом был предан и убит. В конце концов, может быть, это и справедливо, за чудеса приходится платить. Он спрашивал себя, готов ли он принести эту плату, но широкие его губы, деревенеющие от мороза, произнесли другое:
— Хотелось бы мне знать, что сейчас делается в башке у этого Рейнгардта!
Делегат связи, точно вопрос относился к нему, виновато развел руками. Начарт поднял глаза к небу.
3
А быть может, в эту минуту мрачный Рейнгардт, одетый в русскую безрукавку, горбился перед низким окошком избы, складывая и перемножая тридцать пять градусов мороза с тридцатью пятью километрами, оставшимися ему до московского Кремля. Он не потому не двинул свои танки, что потеря Белого Раста ничего для него не значила — так не бывает, когда уже в бинокль видишь само окончание войны, а потому, что был связан с южной клешнею планом одновременного охвата Москвы. Оси наступлений пересекались на Садовом ее кольце: где-нибудь на Таганке, или на Самотеке, или на бывшей Триумфальной, теперь — Маяковского, танкисты Рейнгардта и Геппнера должны были пожать руки танкистам Гудериана и тем завершить наконец столь затянувшийся блицкриг. Так было задумано — и так было близко!
Однако Рейнгардт знал: к этому дню движение немецких армий на всех фронтах приостановилось, и только Гудериан еще каким-то чудом двигался. 3-го декабря он перерезал железную дорогу Тула — Москва и шоссе Тула — Серпухов, осталось развязаться с самой Тулой. «Тула — любой ценой!» — сказано было фюрером, но, видимо, было не в натуре «капризного Гейнца» исполнять чьи бы то ни было предписания «любой ценой», было против его правил и всей его науки растратить свои танки в бесплодном ударе в лоб: за Тулу с ее оружейными заводами русские были готовы заплатить каким угодно количеством жертв. Их бронебойщики и бутылкометатели умирали так охотно, точно бы смерть была для них единственной целью в жизни. И, насколько Рейнгардт мог понять, Гудериан не сделал того, чего хотели бы от него и фюрер, и русские, он только дал своим танкам ввязаться в бой, дал русским послушать рев двухсот моторов, но встретились они — с его пехотными, конными и мотоциклетными частями, а танки он высвободил, как только он один умел, и длинным изогнутым рейдом обошел Тулу с востока. Она оказалась в мешке, и мешок этот все растягивался, и, кажется, Рейнгардт уже постигал своевольный замысел Гудериана: не Тула ему была нужна, а — Кашира. О, разумеется, Кашира, это чуть не вдвое ближе к Москве! При обстоятельствах чудесных, какие умел создавать или использовать «Быстроходный Гейнц», это мог быть один переход к окраинам русской столицы, один боекомплект, одна заправка баков, один суточный рацион экипажам. В любой час могла прийти весть о взятии Каширы, и это было бы сигналом Рейнгардту — начать и ему последний бросок. И вот этого часа Рейнгардт ожидал с ужасом.
Его танки, не двигаясь с места, жгли ночами безостановочно последнее горючее, иначе б к утру не завелись моторы. В рубашки охлаждения вместо незамерзающего глизантина залита была вода — через час-другой остановленные моторы можно было считать погибшими. А еще потому нерассчитанно много потрачено было горючего, что давно стерлись шипы на траках гусениц, и буксование по гололеду стоило двойного, тройного расхода. Несколько дней назад на станцию Калинин пришел эшелон, груженный «особо ценным грузом». Не разбитый русской авиацией, не подорванный партизанами, он привез — вместо горючего, вместо глизантина, вместо новых гусеничных траков, вместо снарядов — отесанные плиты красного финского гранита: на памятник Адольфу Гитлеру в центре поверженной Москвы…[7] Так пожелать ли удачи Гейнцу или лучше бы о ней не услышать?