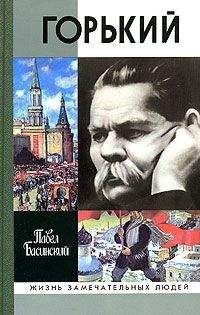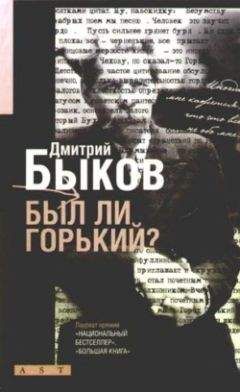— Молись, ребята!
В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в черную кучу и заворчали, как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:
— Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С Богом — начинай!
И тяжелые, ленивые, мокрые люди начали „показывать работу“. Они, точно в бой, бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи, — с гиком, ревом, с прибаутками. Вокруг меня с легкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжелые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей метались черные люди, глухо топая ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырехпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. Работали играя, с веселым увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятия женщины.
Большой бородатый человек в поддевке, мокрый, скользкий, — должно быть, хозяин груза или доверенный его, — вдруг заорал возбужденно:
— Молодчики — ведерко ставлю! Разбойнички — два идет! Делай!
Несколько голосов сразу со всех сторон тьмы густо рявкнули:
— Три ведра!
— Три пошло! Делай знай!
И вихрь работы еще усилился.
Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я и всё вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя, — месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места куда захотят.
Я жил в эту ночь в радости, не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортом плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер, в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые мокрые люди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом. А тут еще ветер разодрал тяжелую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес сверкнул розоватый луч солнца — его встретили дружным ревом веселые звери. Встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею.
Казалось, что такому напряжению радостно разъяренной силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки. Посмотрев минуту, две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжкой толщи облаков и утонул среди них, как ребенок в море, а дождь превратился в ливень.
— Шабаш! — крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:
— Я те пошабашу!
И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождем и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля.
Потом перешли на пароход и там все уснули, как пьяные, а приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки».
Это — законченное стихотворение в прозе. Здесь всё дышит поэзией, за которой не сразу видишь мысль, которой еще не могло быть у юного Пешкова — идею коллективного труда как силы, способной творить подлинные чудеса. Эта сила и есть бог. Но это мысль зрелого Горького, а пока Алеша просто растворился в «людской» массе, заворожен ее слаженной работой, своеобычной звериной красотой.
Разумеется, описанный случай перегрузки товара с баржи на баржу — случай исключительный. Но таких исключительных случаев было немало. Однако Горький не останавливает на них внимание. Он как будто не догадывается о том, что этот «взрыв» артельного энтузиазма говорил не только о силе и могуществе человека в его изначальной сущности, но и о том, что вся российская жизнь перед революцией свидетельствовала вовсе не об угасании жизненной энергии великой империи, но о ее избыточности. Именно эта избыточность, как ни парадоксально, и явилась причиной революции.
Эту неожиданную мысль в приватной беседе высказал автору этой книги историк и филолог Вадим Кожинов. Но говорил он тогда не о «Моих университетах», а о «Жизни Клима Самгина». Суть рассуждений была следующей. В последнем своем произведении Горький как мыслитель старался доказать, что «сорок лет» перед революцией были годами деградации царской России. Но как поэт и художник он показал нам обратное: избыточность жизни того времени. Если взять всё вместе: размах русского купечества, количество церквей и монастырей, обилие философских и художественных школ, течений и направлений от марксизма до ницшеанства и от реализма до символизма, взрыв артистической деятельности (Московский Художественный театр, Шаляпин, балет Дягилева, «Мир искусства»), то окажется, что «Клим Самгин» является романом о гибели страны, которая не справилась с избытком собственной мощи.
Казань жила своей жизнью. Пекари с подручными выпекали булки, делали кренделя, предварительно выварив сырое тесто в соленой воде. Студенты учились или бунтовали. Красивая девушка от избытка молодых чувств кончала с собой, чтобы отомстить отцу и что-то доказать всему миру. За ее гробом выстраивалось около пяти тысяч человек — только представьте себе эту похоронную процессию! Народники и марксисты спорили на тайных квартирах до хрипоты о Бахе, Лаврове и Берви-Флеровском, а татарские муэдзины по утрам тонкими голосами кричали с минаретов. В Духовной академии (одной из самых крупных в России) обсуждался очередной доклад профессора апологетики христианства Александра Федоровича Гусева, того самого, что станет допрашивать в Феодоровском монастыре покушавшегося на жизнь «цехового Алексея Максимова Пешкова». В психиатрической лечебнице, в трех верстах от города, великий ученый Владимир Михайлович Бехтерев читал лекции, демонстрируя больных. Крючники грузили баржи, воры их ночью обворовывали. Проститутки торговали своим телом, услаждая рабочих и пекарей после выплаты им получки.
Заглянем в «Адрес-календарь города Казани» того времени.
Губернатор. Камергер двора Его Императорского Величества, действительный статский советник Петр Алексеевич Полторацкий. Живет в крепости, в Кремле, во дворце.
Канцелярия губернатора. Находится тут же во дворце. Правитель канцелярии коллежский асессор Иван Игнатьевич Калашников с помощниками. Старшие чиновники особых поручений — Вадим Петрович Михайлов и Алексей Васильевич Нассонов. Младший чиновник особых поручений — коллежский секретарь Алексей Григорьевич Иванов. Это «верхушка» власти.