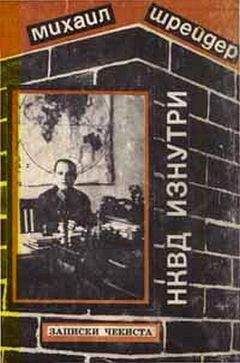Так как количество арестованных все увеличивалось и увеличивалось, охватывая все новые и новые группы руководящих работников в разных организациях, Радзивиловский пытался привлечь и меня, как почетного чекиста, к следственной работе. В частности, он предложил мне вести следствие по делу арестованного заведующего облздравотделом Луговского, которого я знал как исключительно скромного и честного человека.
Скрепя сердце я вынужден был согласиться «помочь» УНКВД.
Опасаясь провокации, я вызвал к себе в кабинет в качестве свидетеля заместителя начальника уголовного розыска, бывшего чекиста Зуева.
Когда Луговского привели ко мне в кабинет, я предложил ему сесть и сказал, что мы располагаем данными, что он является членом правотроцкистской группы, в которую его завербовал бывший председатель облисполкома Агеев. (Радзивиловский вручил мне протокол допроса Агеева с указанными сведениями.)
— Вы знаете меня и мою семью не первый год, — ответил Луговской. — Заявляю вам, что никогда не отходил от линии партии, всегда боролся с троцкистами. У вас неправильные данные. По-видимому, это какая-то провокация.
Побеседовав с Луговским с полчаса, я отослал его в камеру. Затем вызвал еще раз, но с тем же успехом. Тогда я отправился к Радзивиловскому, взяв дело Луговского, в котором находилась копия протокола допроса Агеева, и сказал, что не верю показаниям Агеева, так как знаю, что Луговской — честный коммунист. Кроме того, учитывая мои дружеские отношения с Луговским, я не могу вести его дело.
(Недавно Ф. Чангули, приезжавший ко мне на дачу летом 1966 года, вспоминал, как Юревич в его присутствии докладывал Радзивиловскому, что Шрейдер, мол, разлагает подследственных, в частности — Луговского, который у него не только не признается в своих грехах, а наоборот, утверждается в отрицании их.)
Затем я сказал Радзивиловскому, что не могу запускать работу милиции и «тройку» по уголовным делам,[52] которую он полностью взвалил на меня, и прошу вообще освободить меня от следственных дел НКВД или же снять с меня ответственность за работу милиции и перевести в НКВД.
Радзивиловский недовольно поморщился и, взяв у меня из рук дело Луговского, сказал:
— Рекомендую тебе, Михаил Павлович, поменьше доверять разным твоим дружкам. И так уже подозрительна твоя дружба с троцкистом Ковалевым. (Ковалев тогда еще был вторым секретарем обкома.)
На мой вопросительный взгляд Радзивиловский сказал:
— Что ты так удивленно смотришь? Я не оговорился. Ты еще и не такие вещи узнаешь. Я, конечно, верю, что ты тут ни при чем, но ряд товарищей в этом не уверены.
Не прошло и трех часов, как раздался звонок Радзивиловского, который попросил меня зайти к нему. Когда я вошел в кабинет, рядом с ним в торжествующей позе стояли начальник СПО Юревич и его помощник Викторов, неофициально выполняющий обязанности заместителя начальника УНКВД.
— Вот, возьми, полюбуйся, — протянул мне Радзивиловский протокол допроса Луговского.
Я быстро пробежал глазами протокол. Насколько мне помнится, там было сказано, что Луговской признает себя виновным в том, что он является членом правотроцкистской организации, а затем был приведен ряд фамилий членов партийного актива области, как якобы состоящих в организации вместе с ним, Луговским.
— По-видимому, я плохой следователь, — сказал я Радзивиловскому и вышел из кабинета совершенно раз битый и обескураженный.
На следующий день мне пришлось вместе с Ковалевым ехать на дачу в Ломы. Охранявший его работник НКВД сидел рядом с шофером, а я с Ковалевым на заднем сиденье.
Будучи глубоко уверен в невиновности Ковалева и чувствуя к нему расположение, я нарушил свой служебный долг и вполголоса сказал ему:
Леонид Иванович, вы видите, какая сейчас создалась обстановка? Вам бы следовало написать письмо в ЦК Сталину и Ежову, чтобы оградить себя от возможных провокаций. Больше я, к сожалению, ничего не могу вам сказать, так как далек от следственных дел, но вижу, что вокруг вас сгущаются тучи.
Я и сам чувствую какое-то недоверие к себе со стороны окружающих и обязательно воспользуюсь вашим советом и сегодня же ночью напишу письмо в ЦК. Но заверяю вас, что бы со мною ни случилось, верьте мне, что я преданный коммунист и готов отдать жизнь за Сталина.
Подъехав к дачному месту, мы расстались.
На другое утро в УНКВД было обычное оперативное совещание в кабинете Радзивиловского, на котором я обязан был присутствовать.
Начальник СПО Юревич доложил, что ночью арестованы секретарь обкома Ковалев и ряд других работников и у Ковалева при аресте обнаружено незаконченное письмо в ЦК на имя Ежова.
— Этот подлец Ковалев хотел разжалобить Ежова, — с издевкой иронизировал Юревич. — Письмо подтверждает, что он активный троцкист и враг народа.
Я весь похолодел и с этой минуты стал ждать ареста, так как был уверен, что у Ковалева, физически довольно слабого и болезненного человека, пытками могут вынудить дать показания на других сослуживцев и на меня, как на одного из наиболее близких товарищей и почитателей Ковалева в Иванове.
До сих пор я так и не знаю, чем объяснить, что Ковалев, после тяжелых пыток оговоривший себя, оговоривший группу работников комсомола во главе с секретарем обкома комсомола Зиной Адмиральской и ряд других товарищей, обо мне не сказал ничего. А может быть, он и сказал, но по неизвестным для меня причинам этим показаниям тогда не был дан ход?
Тем временем в Иванове образовалась какая-то мясорубка. Путем страшных избиений и пыток, проводившихся изощренными садистами Юревичем, Саламатиным, Викторовым и Рядновым, арестованных коммунистов заставляли «признаваться» в несовершенных преступлениях. Под пытками они оговаривали себя, товарищей, сослуживцев, фамилии которых им заранее подсказывались. Таким образом, количество арестованных и подлежащих расстрелу лиц все увеличивалось и увеличивалось, и «особой тройке» приходилось «работать» чуть ли не круглосуточно.
Радзивиловский в Иванове лично не участвовал в избиениях и пытках при допросах. Как-то я присутствовал при его разговоре с Викторовым и Рядновым, когда они просили его принять участие в чьем-то допросе, на что Радзивиловский в категорической форме возразил:
— Что же это, я буду еще за вас работать? Нет, это ваше дело.
Не сомневаюсь, что в Москве, находясь в подчиненном положении у Реденса, Радзивиловский должен был принимать участие в допросах и, видимо, благодаря своим способностям в этом направлении и сделал такую «блестящую карьеру». Но в Иванове, пользуясь своим правом высшего начальника, он уже не хотел заниматься этим «грязным делом».