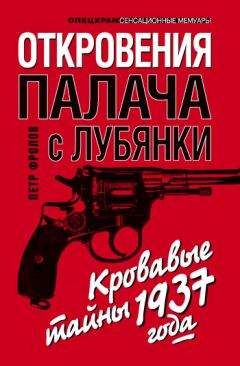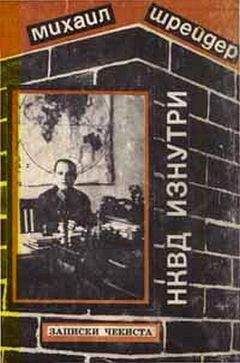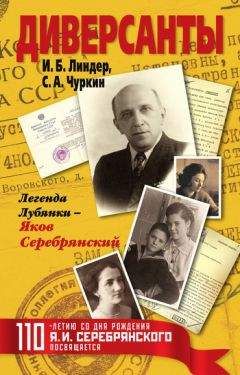Надзиратель сначала заглянул в глазок, а только потом отодвинул засов и отпер замок. Затем распахнул дверь. Я через плечи сгрудившегося у входа начальства заглянули вовнутрь каменного «мешка».
Наверно, основатель монастыря и спроектировавший его архитектор были садистами, а жившие здесь монахи – мазохистами. Узкий пенал глубиной около двух метров, высотой меньше двух метров (при моем росте метр восемьдесят я едва не задевал головой потолок) и шириной чуть больше полутора метров. Крохотное окошко, через которое не увидишь происходящее во дворе. Поверхность стен была шершавой. Казалось, что штукатур вымазал их бетоном и куда-то исчез, так и не завершив свою работу.
Тусклый свет электрической лампочки, спрятанной под проволочным колпаком, освещал спартанскую обстановку. Узкая и короткая койка, которая вопреки существовавшим правилам не была пристегнута к стене, и поэтому обитатель камеры мог спать или лежать днем, – непозволительная роскошь для «врага народа»! Небольшой столик и привинченный к полу табурет, на котором восседал второй надзиратель.
При появлении начальства тюремщик вскочил, вытянулся по стойке «смирно» и замер, ожидая приказаний. Старший надзиратель сделал едва заметный знак рукой, и подчиненный беззвучно выскользнул в коридор.
– Какие-то они у вас молчаливые, – тихо произнес военный юрист.
– Больше молчишь, лучше служишь, – бодро ответил старший надзиратель. – Привыкли. Они ведь во время смены молчат весь день. Любые разговоры с подследственными, а также между собой запрещены.
«Они ведь, наверно, еще и присматривают друг за другом, – подумал я, – недаром парами дежурят». Во время службы на границе находившимся в секретах, а также в дозорах тоже было запрещено переговариваться, но там этот запрет был связан с объективными обстоятельствами – необходимость скрыть свое местонахождение от нарушителей. Понятно, что нельзя общаться с заключенными, но почему между собой тоже запрещено? Возможно, из-за того, чтобы создать для обитателей камер режим абсолютной тишины. Я вспомнил о своих ощущениях, которые испытал во время нахождения под следствием на Лубянке.
Мои воспоминания прервал стон лежащего на койке маленького человечка в потрепанных галифе и гимнастерке. Он уткнулся лицом в спрятанные под головой ладони и периодически издавал тихие и монотонные звуки.
Я решил, что бывший нарком сошел с ума, и испуганно взглянул на старшего надзирателя. В инструкции ничего не говорилось о том, как поступать в такой ситуации. Блохин однажды сказал, что несколько человек тронулись рассудком во время следствия, но их расстреляли как обычных людей. А как поступить с бывшим наркомом в такой ситуации? Военный юрист подумал о том же. Старший надзиратель поспешил успокоить нас:
– Не обращайте внимания, это он придуривается! Поужинал сегодня с аппетитом, а ближе к ночи каким-то нервным стал. Наверно, чувствует, что его ожидает… – и испуганно замолчал, сообразив, что сказал лишнее. Формально Ежов мог обжаловать приговор и добиться отмены смертной казни. Кроме того, никто из надзирателей, опять же, формально не знал фамилии обитателя камеры № 27 и не мог знать о том, что его должны расстрелять.
В реальности надзиратели давно опознали в подследственном бывшего наркома Ежова – ведь портреты последнего до осени 1938 года украшали стены помещений на спецобъекте № 110 и там, где надзиратели служили до этого. Могли они видеть его фотографию в газете «Правда»; впрочем, я сомневался, что они внимательно читали это издание. Поэтому надзиратели, вспомнив судьбу предыдущего наркома – Ягоды, могли предположить, что владельца «ежовых рукавиц» ждала пуля в затылок, как матерого «врага народа».
– Подследственный № 27, – внезапно рявкнул старший надзиратель, – встать! Руки за спину! Сука!
Бывший нарком медленно перевернулся на бок, затравленно и обреченно поглядел на столпившихся в коридоре визитеров, тяжело вздохнул и неуклюже сначала сел на койку, а затем так же медленно встал.
Заместитель Главного военного прокурора торжественно и монотонно сообщил Ежову о том, что его просьба о помиловании отклонена Верховным судом. После этих слов приговоренный внезапно побледнел, словно полупустой мешок с картошкой опустился на койку и громко разрыдался, закрыв лицо руками. Человек, отправивший множество людей на казнь и в ГУЛАГ, сам боялся умереть! Мне было противно смотреть на полумертвое и трусливое существо. Захотелось пинком ноги скинуть его на пол и словно футбольный мяч одним ударом отправить этот сгусток слизи в помещение, где расстреливали. Хотя такой легкой и быстрой смерти он недостоин. Хотелось пинать его ногами до тех пор, пока подлая душонка не покинет это тщедушное тельце.
Я вспомнил, что Блохин однажды рассказал, что Ежов регулярно присутствовал на казнях. И требовал от коменданта извлекать пули из голов расстрелянных высокопоставленных «врагов народа» и присылать ему. Не знаю, зачем наркому внутренних дел требовались эти пули. Говорят, что несколько из них (каждая завернута в отдельную бумажку с указанием фамилии жертвы) были изъяты во время обыска на квартире у Ежова. Куда делись остальные пули – не знаю. Может быть, нарком использовал их в каких-то только ему известных ритуалах. Может, во время очередной пьянки с подельниками уничтожил.
Ежов был вообще странным человеком. Любил превращать казни в спектакль. Одно из его развлечений – один из приговоренных вместе с наркомом сначала наблюдал за тем, как казнили подельников, а в конце спектакля сам получал пулю от палача. Другое – заставить Блохина надеть кожаный фартук, кепку и перчатки и в таком виде расстреливать «врагов народа». Третья идея – тем, кому Ежов симпатизировал, перед расстрелом давать коньяк. Четвертая – перед казнью избивать приговоренных. Правда, бил не сам нарком – из-за маленького роста и рахитичного телосложения не мог он избивать людей, – а кто-то из его подчиненных. Комендант говорил, что вид корчившихся от боли людей радовал Ежова. Он фальцетом выкрикивал: «Еще! Еще! Сильнее! Давай! Еще раз!»
Сам я не присутствовал при этих экзекуциях – сначала служил на Дальнем Востоке, а потом сидел в камере на Лубянке – мне об этом уже Блохин рассказывал. А ведь мог и я оказаться на месте казненных. Если бы Берия вовремя Ежова не разоблачил. Мог бы вместо кабинета нового наркома оказаться в помещении для расстрелов и увидеть в первый и последний раз в жизни старого наркома. Вот ведь какие бывают повороты в судьбе. Я с Ежовым местами поменялся. Мои размышления прервал тихий приказ военного юриста:
– Уведите!
Надзиратели подхватили тщедушного человечка под руки, выволокли в коридор и потащили, словно мешок с картошкой, в помещение для расстрелов. Путь был долгим. Сначала нужно было добраться до лестницы, по ней спуститься на первый этаж, выйти на улицу, пересечь двор и затащить бывшего наркома в приземистое здание. По пути до входной двери Ежов лишь икал, вздрагивая каждый раз. Ноги его безжизненно волочились по чисто вымытому каменному полу. Когда вышли на улицу, тело у надзирателей приняли двое бойцов конвойных войск. Сильный мороз подействовал отрезвляюще на Ежова. Он перестал икать, во взгляде появилась осознанность, он напрягся и попытался вырваться из рук конвойных.