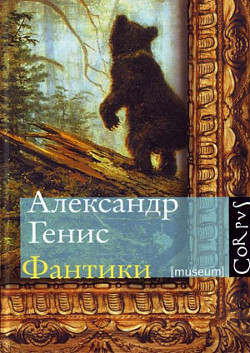от жизни, что позволяет без возражений и с восторгом принять безумную, но безупречно логичную концовку. Врагов у Тарантино уничтожает сам дух кино, выпущенный на волю режиссером.
31 марта
К открытию выставки “дегенератов”
“Дегенератами” они стали не сразу, а лишь по приговору фюрера. Чем же так бесил Гитлера модернизм? Тем, что он не преображал жизнь, а искажал ее, уводя от идеала. По Гитлеру хорошая картина – портрет Дориана Грея наоборот. Никогда не меняясь, он прятал под собой тот кошмар окружающего, который живописали с ужасом и талантом “модернисты-дегенераты” Веймарской республики.
Сам Гитлер предпочитал другое. Страстный поклонник античности, он повесил над камином панно Адольфа Циглера “Четыре элемента”. Все здесь знакомо. Пол в шахматную клетку – из Вермеера, девы – из Кранаха, груди из мрамора, фигуры напоминают кариатиды храма вечного покоя.
– Глядя на это, – заметила жена, – вспоминаешь Кашпировского, говорившего с телеэкрана: “Вам спокойно́”.
Любимец Гитлера навевал безмятежные думы о той идиллической вечности, которой не было места на картинах немецких модернистов.
Германский авангард, как все, что уцелело после Первой мировой войны, разительно отличался от искусства предшествующего ей “века надежности”. Новое перестало быть молодым, ибо не верило, что успеет вырасти. Не рассчитывая на проценты, жизнь торопилась прокутить добро. Порочная и бесстыдная, она не находила себе ни в чем опоры.
В этой живописи сосредоточились те черты экспрессионизма, которые отличали тевтонский стиль от галльского импрессионизма. Французы были экстравертами, немцы писали ландшафт души, увиденный внутренним взором и искаженный им. Считая экспрессионизм национальным искусством, нацисты сначала терпели этот грубоватый и напористый стиль. Но Гитлер не выносил живописи, меняющей реальность.
Выставка “дегенеративных” художников (1937), показавшая 650 полотен, украденных из 32 музеев, честно представляла искусство Веймарской Германии. Короткая, но отмеченная неслыханным со времен Веймара Гёте расцветом культуры, эта эпоха – бельмо на глазу истории. Возможно, потому, что эту немецкую республику, коррумпированную и беспомощную, никто не полюбил и не пожалел. Безмерно яркая и очень несчастная, она до сих пор соблазняет примером и пугает уроком.
Апрель
1 апреля
Ко дню рождения Николая Гоголя
Иногда мне кажется, что он не умел писать по-русски. А когда пытался, то выходил сплошной “Кюхельгартен”. Гоголь писал по-своему и был гениален тогда, когда его несло. Поэтому читать его надо, как контракт: медленно, въедливо, по много раз – и все равно надует.
Гоголь – восторг, которым нельзя не делиться. В моей жизни был счастливый месяц, когда мы с Довлатовым через день встречались в кафе “Борджия”, чтобы похвастаться открытием, неизвестно где скрывавшимся от всех предыдущих прочтений. Больше всего я гордился разговором Хлестакова с Земляникой:
“– Мне кажется, как будто вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?
– Очень может быть”.
Гоголь для нас был лучше водки: он пьянил исподтишка. Мало проглотить фразу, надо дать ей всосаться. Только так, выпивая абзац за абзацем, учишься парадоксальному гоголевскому языку, опровергающему самого автора. Слова тут не помогают, а мешают тексту рассказать свою историю, создавая параллельный или даже альтернативный сюжет.
Такое случилось с “Тарасом Бульбой”, которого первым “проходят” и последним понимают. Настаивая вместе с автором на патриотическом содержании, повесть противоречит себе: героям важна не цель, а средства. Соответственно, пафос книги не в конце, а в начале:
“– Да сними хоть кожух! – сказал, наконец, Тарас, – видишь, как парит.
– Не можно, у меня такой нрав: что скину, то пропью”.
Казаки Гоголя, как мушкетеры Дюма или алкаши Венички Ерофеева, живут, пока пьют и дерутся на “вечном пире души своей”. Этот пир потому вечен, что накрыт в заглохшей, но неистребимой доисторической глубине, где Ницше находил белокурую бестию, Юнг – архетипы, Сартр – экзистенциальный каприз. Гоголевские казаки не вне морали, они – до морали, и это делает их зверски свободными.
1 апреля
Ко Дню билингвизма
Двуязычие было нормой большую часть истории. Образованные римляне говорили по-гречески, европейцы – на латыни, русские – по-французски, ну а сейчас все так или иначе изъясняются на английском; даже тогда, когда, путая слова из трех букв, пишут в подъездах sex, имея в виду совсем другое.
То, что в нашей голове помещаются два языка, еще не значит, что они так же легко уживаются друг с другом. Чужой язык притворяется слугой, а становится хозяином. Эту гегелевскую диалектику я каждый день испытываю на себе, живя в Америке. Здесь во мне, как в Печорине, два человека. Один говорит, что думает, другой не думает, что говорит.
По-русски мне обычно удается сказать все, что хочется. Но с американцами за меня говорит их язык. Этот диалект мы с женой-филологом называем Have a nice day. Оказывается, на чужом языке банальным быть проще, чем хамом. Шутки нельзя переводить, даже если очень хочется. Монолог уступает место диалогу. Ваты меньше, картону больше. Сальность нуждается в остроумии. Мат ничего не значит. Фамильярность не исключает, а подразумевает вежливость. Бродский долго не верил, что на английском можно сказать глупость. Это, конечно, не так, но вот напиться на английском, по-моему, никогда не получается. Неудивительно, что, говоря по-чужому, постепенно перестаешь узнавать себя. Язык исподтишка вползает в душу даже тогда, когда ее нет, как это случилось с газетой Moscow News.
От других печатных органов брежневского времени она отличалась тем, что умела говорить, ничего не сказав, на нескольких языках сразу. Из нее мне удалось (пришлось) узнать, как называется по-английски “передовик социалистического соревнования”. Все это кончилось, когда в редакцию взяли настоящего американца. Не меняя содержания, он так отточил форму, что у газеты появился вольный дух, сделавшей ее флагманом перестройки.
Ученые говорят, что всякий язык образует собственную Вселенную, путешествуя по которой, мы не можем не набраться ума и терпимости.
1 апреля
Ко Дню смеха
Смех универсален, юмор национален, первый принадлежит цивилизации, второй укоренен в культуре. Немого Чаплина понимают все, чужому юмору надо учиться, как иностранному языку.
Так, только с трудом и постепенно мне удалось полюбить дидактичный и пресный китайский юмор. Зато с тех пор я, как школьник, выписываю в тетрадку изречения его великого мастера Чжуан-цзы и привожу при каждом удобном случае: “Самого усердного пса первым сажают на цепь”.
Русский юмор лучше всего там, где он сталкивает маленького человека со Старшим братом: “Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли”. Понятно, почему мы выучили наизусть Швейка.
Юмор Германии витает в плотных облаках. Томас Манн считал комическим романом не только свою “Волшебную гору”, но и кафкианский “Замок”. С последним соглашались современники, покатывавшиеся от хохота, когда Кафка читал им вслух первые главы этого беспримерного опыта трагикомического богословия.
Чтобы заполнить Новый Свет, юмора нужно больше. Особенно в Техасе, где, как писал О. Генри, девять апельсинов составляют дюжину. Американская экспансия смешного не знает исключений. Герой Вуди Аллена такой утрированный ипохондрик, что его космический невроз требует