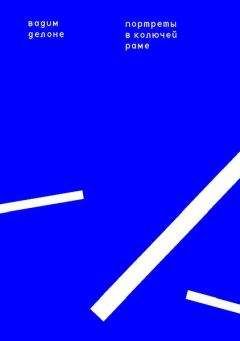В один день с Егором досрочно освобождался москвич Миронов, по прозвищу Кишка. Даже среди активистов этот достойный член штаба СВП считался негодяем. На всей двухтысячной зоне не было ни одного человека, на которого бы этот Миронов не донес. Ни один лагерный надзиратель не мог сравниться с ним в мастерстве унюхать незаконное чаепитие или провоз из рабочей зоны купленных у вольных сигарет. С утра до ночи этот здоровенный опухший детина, от которого всегда разило отрыжкой даровой добавочной каши, носился по зоне, как угорелый. Даже дотошных офицеров иногда утомляло его неистовое рвение. Активисты из сибирских вели себя посдержаннее и доносили не на всех. Хоть и доблестная Тюменская область величиной чуть не с Западную Европу, но пути-дороги ее обитателей пересекаются часто, человек там не может исчезнуть и раствориться. Активисты из сибирских прекрасно знали, что после досрочного освобождения рано или поздно попадутся на глаза. В тех краях темнеет быстро, и на воле нет автоматчиков на вышках и стукачей в каждом бараке. Активисты из сибирских опасались расправы. Миронов ее не боялся. В Москве легко исчезнуть. Миронов надеялся на скорую реабилитацию перед государством всеобщей справедливости. Он отбывал срок за то, что, будучи начальником ударного комсомольского отряда, обсчитывал работяг. Конечно, все комсомольские вожаки так и поступают, но Кишка по своей неуемной жадности превысил пределы дозволенного грабежа. Теперь условно-досрочное освобождение гарантировало ему не только московскую прописку, но и возвращение на прежнее место работы.
До вокзала, во избежание инцидентов, его должен был сопровождать один из младших офицеров охраны. Через пару дней по зоне поползли злорадные слухи: с Мироновым все же посчитались дорогой. Подробностей никто не знал. Блатные и мужики, пацаны и доходяги – все без исключения строили гипотезы, не скрывая радости. В один из вечеров ко мне в барак забежал посланец Соловья: «Политик, – прошептал он, – Леха ждет тебя, разговор серьезный».
Соловей был не по обыкновению мрачен.
«Беда случилась – только что из Тюменской тюрьмы мне передали – Егор под расстрелом сидит, всего один день по свободе погулял. Не судьба, значит, а какой парень… Он-то Кишку эту, Миронова, и вспорол». – «Как же так, Леха, – мне все не верилось, – его же охраняли, не может быть…»
«Охраняли… теперь его земля охраняет, гада этого. Вот как дело было. Приехал Миронов с офицером на вокзал. В зоне-то он чая в рот не брал, все праведника корчил, а тут отпраздновать решил. Всех, мол, обманул – на зоне кумовское сало днем и ночью жрал, по половине срока освободился. Ну и стали они с офицером в вокзальном ресторане опрокидывать. Дальше – больше. Премий у него от начальства за отличную работу немало накопилось, хотя он, паскуда, на работу никогда не являлся, а все больше в штабе СВП да у кума торчал… Отправку свою в Москву Миронов отложил, и стали они из ресторана в ресторан переползать. И в одном кабаке вынесло их на Егора, но спьяну не заметили. А тут еще офицер спохватился, что пора ему быть на зоне, и оставил Миронова без присмотра. Тот покуролесил еще немного и поплелся на вокзал. Дорогой его Егор и остановил. Ты же знаешь, как можно душу отвести, да еще на таком дерьме, из-за которого у скольких пацанов менты полжизни отняли. Миронов сначала на помощь звал, а когда понял, что офицера рядом нет, стал по старой привычке запугивать: бей, мол, я тебя все равно вложу, я в больничке отлежусь, а тебя точно в зону пристрою. Ну Егор и не выдержал. Первый день всего по свободе гулял. Вспорол он эту Кишку, все равно, мол, пропадать, так уж с музыкой. Когда чухнулись менты, подозрение на него пало, и сняли его несколько дней назад с какого-то поезда. Доказать вроде бы ничего толком не могут. Но Егор с дружком был, и тот вроде пытался Егора от мокрого дела уберечь, и бросился на него, чтобы помешать. Егор его случайно и порезал чуть-чуть. Его тоже посадили, он молчит, но Егору теперь придется в сознанку идти, чтоб дружка по делу не потащили.
Вот беда какая! А может, и не Егор вовсе, а тот, другой, грех на душу принял, а Егор просто дело на себя решил взять – кто его знает. Он тебе просил передать извинения, что стихи, которые ты написал для девчонки его, он отправить не успел, при обыске менты отняли. Он очень за тебя беспокоится, потому как и переписать не успел. Все так твоей рукой и осталось: на память Егору и подпись. Дело серьезное, как бы тебе призыва к террору не приклеили». – «Да что ты, Леха, какой там призыв, никакого там призыва нету». – «Что тебе объяснять, политик, они все могут. Эх, не дошли стихи до Егоровой подруги и теперь, верно, никогда не дойдут. Понимаешь, никогда…»
* * *
Лето того года, когда ушел от нас Егор, – не то на смерть, не то на Бог знает какой лагерный срок, – было вообще черным летом и летом душным. В Сибири, где десять месяцев – зима, остальное – лето, неожиданно наступает несусветная жара, и расплавленный воздух несет и бросает на хрупкие человеческие тела мириады летучих гнусов. Быстрые и мутные воды реки Тура казались всем спасением, правда, спасением весьма сомнительным, поскольку на этих водах качались поплавки с вышками, а на вышках – охранники. И не просто охранники, а охранники азиатские, потому как в конвойные войска набирают обычно туркмен, таджиков или казахов. Расчет простой и, с государственной точки зрения, весьма мудрый. Все эти азиаты, а по лагерным выражениям «чучмеки» или «чурки», не без основания считают себя нациями порабощенными и, полагая, что в лагере сидят в основном русские (что, впрочем, не совсем правда), то есть поработители, готовы хоть как-то отыграться и по каждому поводу или без повода хватаются за автомат. Есть, очевидно, не менее весомая причина, способствующая столь странному, на первый взгляд, подбору состава охраны лагерей…
– Ахмет! – кричу я одному из конвойных.
– Не подходи, стрелять буду! Указ – не положено!
– Ахмет, я же все равно подойду.
И медленно двигаюсь на дуло автомата.
– Эх, бедовый ты, политик! Что тебе, закурить надо?
– Нет, своих хватает. Поговорить хочу.
– Ну, говори, – несколько нерешительно отвечает он, но автомат из рук не выпускает.
– Слушай, Ахмет, – начинаю я издалека, – почему ты всех нас, заключенных, так ненавидишь? Вот если кто к зоне приблизится, чтоб нам сигарет или чаю передать, сразу же в воздух стреляешь? Почему? Тебе же в армии тоже несладко, чуть получше нашего, так чего ж ты так звереешь?
– Потому и такой, что в армию меня из деревни сюда за гнали, взяли и силком привезли. У нас в деревне свои обычаи, не нужна мне ваша армия, вы все русские, и ты тоже.
– Ахмет, – говорю я, – но я же не коммунист, да и они вон все, за исключением активистов, – не коммунисты. Ты хоть Коран-то знаешь?