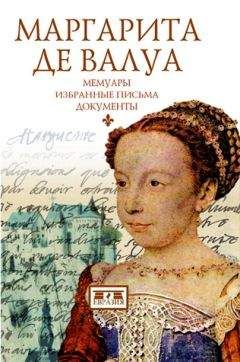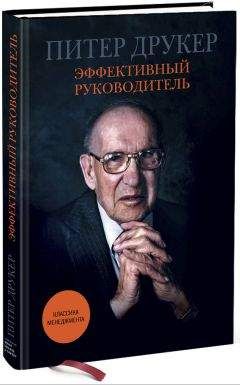И даже если мемуаристка поначалу собиралась исправить «исторические» ошибки, совершенные Брантомом в его рассказе о «По и [ее] путешествии по Франции», потом «о покойном маршале де Бироне», «об отъезде из замка [Юссон] маркиза де Канийяка» и, наконец, «о городе Ажене», она отступает от собственной линии поведения и быстро забывает о своем princeps [первоначальном. – лат.] плане. Переходя, таким образом, от риторических украшений к писательской практике, мемуаристка из историка становится писателем, а ее текст делается «полифонической формой Истории» [175]. Тем самым мы не только движемся от биографии к автобиографии [176], но и от предыстории жанра к его пратексту (prétexte) [177].
Умолчания, многочисленные в структуре текста «Мемуаров», разнообразны. Что бы ни понимать под ними (отсутствие рассказа о событии или его изложение обиняками), они не так просты. Они побуждают читателя к акту творческого чтения, демонстрируя, какова подлинная сила воображения мемуаристки. В самом деле, из обнаруженных «пяти-шести ошибок» (у Брантома) ни одна так и не исправлена; напротив, перед нами произведение, вовсе не написанное «между прочим», как недомолвками пытается внушить автор, а тщательно выстроенное и продуманное, с намерением убедить как непосредственного собеседника, так и потомков. Складывается впечатление, что мемуаристка заполняет эти «пробелы», матрицы для вымысла вставками, уже похожими на то, что Венсан Колонна, а потом Серж Дубровски определили как «самопридумывание» (autofiction). «Мемуары» королевы Маргариты опередили свою эпоху. Они не соответствуют современным определениям [241] этого термина. Это не «Замогильные записки» Шатобриана, где «на склоне лет [писатель] пересматривает историю своей жизни, воскрешает ее в памяти, пытается найти в ней единство и смысл» [178], и тем более не подведение итогов, при помощи которого она пытается (вновь) обрести в себе внутреннюю гармонию, и даже не достоверное описание придворных и повседневных событий – это в некоторой мере все перечисленное сразу, нечто вроде образа моста через время, который она пытается наводить, может, немного нескладно, начиная с детства и первых воспоминаний: «События прошлых лет так переплетены с нынешними, что это обстоятельство вынуждает меня начать рассказ с правления короля Карла, с того времени, когда я была в состоянии запомнить что-либо примечательное для моей жизни».
В конце концов, оказавшись благодаря этому тексту в ловушке писательских фантазий, она улучшит, исправит всю свою жизнь, чтобы раскрыть во всей (или почти во всей) полноте свою личность, которую хочет представить потомкам [179]. В таком случае перед читателями происходит привнесение в прошлое вымысла при помощи воображения Маргариты. Не смущаясь тем, что в результате рассказанное не соответствует обещанному, она делает упор на своей личной хронике и истории своей личности: она описывает себя такой, какой хотела бы быть, не допуская, чтобы in fine ее собственное «я» попало в плен коридоров времени. Кстати, указания на время даются неопределенные, оно мало значит в повествовании о ее жизни. Время расплывчато и неопределенно, как и ее ссылки на временные рамки: «когда мне было четыре или пять лет», «оба они, будучи шести или семи лет от роду», – и больше стесняет автора, когда речь идет о непосредственных последствиях Варфоломеевской ночи, длившихся, по ее утверждению, всего «пять или шесть дней». В ее «Мемуарах» вырисовывается некое субъективное, индивидуальное время, связанное не столько с событием, сколько с его отображением, первостепенное, даже жизненно важное время, ведь оно позволяет раскрыться ее многочисленным «я», формируя тем самым всю ее личность, которая выстраивается и обогащается за счет воспоминания о ее опыте. Так происходит [242] встреча описываемого объекта и описания, персонажа и мемуаристки и достигается даже их совпадение.
Однако, если верить Филиппу Лежену, жанр мемуаров – всего лишь «смежный жанр», с присущим ему «излагаемым сюжетом», отличающийся от благородной автобиографии, где показана «индивидуальная жизнь, история одной личности» [180]. Но в тексте полно мест, где мемуаристка демонстрирует свою личность: в рассказе о смерти Жанны д’Альбре она воплощает прямоту и искренность в противовес лицемерию аристократок; в похвалах Брантому она особо подчеркивает трезвость своих взглядов; описав себя оцепеневшей от ужаса и жертвой обеих враждующих сторон, она снимает с себя ответственность за резню Варфоломеевской ночи. А что сказать о дерзком и решительном обращении к грозной матери? Тут Маргарита де Валуа решительно намерена не позволить далее помыкать собой, множеством слов и действий показывая, что останется верна своему мужу и другу. Кажется, достаточно доказательств, что именно ее личность, ее индивидуальная жизнь выведена на сцену и играет одну из главных ролей в «Мемуарах».
Даже если автор термина «автобиографическое соглашение» относит жанр «Мемуаров» к предыстории, предложенное нами доказательство, несомненно, позволяет рассматривать их как пратекст автобиографического жанра в его современном понимании, – впрочем, тексты, написанные до 1594 года, тоже можно было бы рассматривать как первые опыты, черновые наброски, предшествующие «Мемуарам» Маргариты де Валуа. Они являются предвестниками жанра, которому дал начало Руссо.
Следовательно, связь между текстом и раскрытием «я» осуществляется благодаря взгляду Другого – друга Маргариты Брантома. Чтобы ее услышали, мемуаристке приходится жонглировать намеками, но она достигает и определенной ясности, чтобы ее могли понять. Мы только что показали, насколько важным для нее было исправление ее биографии в целом ради борьбы со «слухами» и другими «сплетнями» [181], ходившими при французском дворе. [243]
«Мемуары»: текст-фантазия, текст-рождение
Кто может послужить для этой цели лучше, чем фаворитка ее мужа? Кто лучше Фоссез поспособствует тому, чтобы в этом тексте возник один из самых прекрасных образов самой мемуаристки? Действительно, можно было бы ожидать повторения случившегося с Дианой де Пуатье, любовницей Генриха II, с которой Екатерина Медичи не пожелала иметь дела после его смерти. Но такого не будет, по крайней мере в «Мемуарах». Совсем напротив, эпизод родов Франсуазы де Монморанси, по прозвищу Фоссез, полностью символичен, хоть и реален. Он позволяет королеве Маргарите вернуться к сложным моментам своей жизни, переписав их по-своему. Таким образом, согласно аристотелевскому принципу катарсиса, событие совершается при драматическом напряжении, созданном Судьбой, столь роковой для юной Маргариты. «Фортуна (которая, если начинает кого-нибудь преследовать, никогда не останавливается после первого своего удара) подготовила мне другую ловушку, не менее опасную, чем предыдущая. Фоссез [...] забеременела» [182].