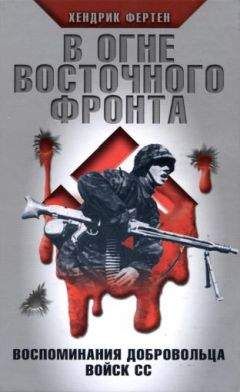И вот почти неделю спустя мы наконец прибыли в Москву. В сборном лагере за городом проверили наши документы. В моих было прописано, что, дескать, я немец. Я сказал лейтенанту: «Я не немец, а австриец!» Мне не верили. «А почему в таком случае здесь ваша подпись?» — возразили мне. В 1944 году в лагере при шахте зарегистрировали только 300 человек выживших, для них заготовили и документы. Тогда еще переводчик-чех сказал: «Никаких австрийцев больше не существует в природе, вы — немцы». Тогда мне было наплевать, в каком качестве он прописал меня, главное, что я покидаю этот ад. И мне пришлось изрядно попотеть, убеждая соответствующих должностных лиц в том, что я действительно австриец.
Московский рабочий лагерь
28 мая 1946 года нас отправили в рабочий лагерь в столице. Он располагался всего в 3-х километрах от Кремля. Одноэтажное здание вмещало 1200 пленных. Там в огромных залах стояли трехъярусные койки. Здесь имелась столовая, душевые и пункт дезинсекции. На койках, подготовленных для нас, лежали соломенные тюфяки, подушки и одеяла. Это воспринималось чуть ли не как верх комфорта.
Как раз напротив нашего лагеря по другую сторону улицы располагалась огромная стройплощадка. Была возведена коробка девятиэтажного здания, в котором собирались разместить какое-то министерство.
Нас вновь поделили на группы по специальности: каменщики, отделочники, электрики, слесари и так далее. И в этом лагере существовала дощечка с надписью, призывавшей пленных работать на совесть для восстановления разрушенного войной народного хозяйства.
Сначала меня направили в транспортную группу. Мы разгружали стройматериалы, цемент, металлоизделия, щебенку. Здесь приходилось работать по 9 часов в день. Дело в том, что здание собирались завершить на 80 % к очередной годовщине Октябрьской революции.
Нами руководила женщина, «начальница», она беспрерывно подгоняла нас — «давай, давай!»
Мне не раз приходилось работать у Москвы-реки. Туда причаливали баржи со строительными материалами, которые предстояло перегрузить на автотранспорт.
Во всех предыдущих лагерях, да и в вермахте, неразрешимую проблему представляли для нас вши. Здесь же их место заняли клопы. Ночью эти насекомые выползали из-под деревянных балок и набрасывались на нас. Мы давили их подушками и одеялами, отчего те постепенно стали буро-коричневыми. Казалось, мучениям нашим не будет конца.
Некоторое время спустя меня перевели к монтажникам. Я пробивал в бетонных и кирпичных стенах отверстия для прокладки труб и электропроводки, а после прокладки заделывал их. Бригадиром у нас был некий Херциг, венец. Так как он пользовался у русских авторитетом, будучи квалифицированным специалистом, я поведал ему о своих неприятностях с документами, если верить которым, я до сих пор числился немцем. Для меня это было очень важно, потому что ходили упорные слухи, что в первую очередь домой будут отпускать именно австрийцев. Херциг пообещал мне переговорить с одним майором по этому вопросу.
Октябрь 1946 года
Однажды нас, 30 человек, послали на товарную станцию. Разбили на группы по 5 человек, наша пятерка разгружала вагон, битком набитый мешками с цементом. Наши конвоиры сказали нам: «Кто первый закончит, тот пойдет в помещение обогреться». Дело было ночью, стояла осень, и все мы старались побыстрее разделаться с работой, чтобы спокойно посидеть в тепле. Когда наша группа завершила разгрузку и мы направились к зданию вокзала, мы по пути обнаружили сарай, в котором хранился картофель. Но сарай был под охраной двух женщин из военизированной охраны. Однако мы исхитрились забраться туда и набили карманы картошкой. Это не осталось незамеченным для женщин-охранниц. Они стали палить в воздух, но нам удалось удрать, и все обошлось.
Даже наши охранники, в принципе, не считали большим криминалом, если мы пытались стащить что-нибудь съестное во время работ в городе. Конвоиры прекрасно понимали, что мы в случае удачи и с ними поделимся — и у них были проблемы с пропитанием.
В нашем лагере имелась большая печка. На ней мы обычно готовили еду из того, что удалось стащить. Администрация лагеря мирилась с этим.
Наш обычный паек состоял из рыбного супа на завтрак, обед и ужин, кроме того, на обед полагалась пара ложек каши, а вечером несколько килек. Раз в неделю все мы получали 50 г сахара и 100 г табака.
И здесь тоже паек напрямую зависел от результатов работы — чем больше процент перевыполнения нормы, тем больше еды. И еще одно: из Москвы мы имели право раз в месяц посылать домой открытку. На маленькой открытке много не напишешь, но успело миновать больше года, как кончилась война. И мы начинали чувствовать некоторые послабления, к тому же пленные уже не гибли, как мухи.
Приближалась годовщина Октябрьской революции. Главный праздник коммунистов. И для нас этот день считался выходным. Прямо из нашего лагеря мы имели возможность следить, как по улице Горького[8] к Красной площади двигались нескончаемые колонны пехоты, танков, артиллерии. И, надо сказать, демонстрация мощи армии Советов впечатляла.
Декабрь 1946 года
Однажды утром меня прямо со стройплощадки вызвали в лагерную контору к нашему майору. Речь шла об установлении моего гражданства.
Прибыв туда, я с дрожью в коленях доложил по-русски о прибытии. Майор вместе с молоденькой переводчицей сидели за столом. Он предложил мне сесть в кресло напротив. Сначала он через переводчицу спросил, как меня зовут, уточнил дату моего рождения, местожительство и то, с какой стати меня зачислили в немцы. Я, призвав на выручку все искусство убеждать, попытался объяснить, что это — недоразумение, что во всем виноват чех-переводчик в нашем первом лагере в Донецке. И что меня просто-напросто вынудили поставить свою подпись в анкете.
Допрос продолжался 4 часа. Майор задавал вопросы не только о моем гражданстве, но и о прохождении службы в период войны, в каких дивизиях я служил, в каких операциях участвовал. Я аккуратно перечислил все места службы вплоть до пленения под Минском 10 июля 1944 года. Один раз он укоризненно спросил: «А кто, по-вашему, вероломно напал на нас и разрушил наши города?» Едва не разревевшись, я ответил: «А я что? Я же не сам напросился в вермахт, меня призвали. Откажись я, меня бы к стенке поставили. Я бы с удовольствием остался дома». Майор по ходу допроса что-то записывал. Наконец все закончилось, и он отпустил меня ужинать.
Я рассказал обо всем моему товарищу Херцигу, мол, дело сдвинулось с мертвой точки, похоже, все прояснится.
Вскоре майор снова пожелал меня видеть. Но на сей раз все было много короче. Меня попросили поговорить на австрийском диалекте. Пожалуйста — ничего легче. Стоило мне произнести несколько фраз на диалекте, как и майор, и переводчица расхохотались. Естественно, даже она ни словечка не поняла. «Ну, как, товарищ майор? Теперь убедились, что я на самом деле австрияк?» — спросил я. «Посмотрим», — успокоил он меня.