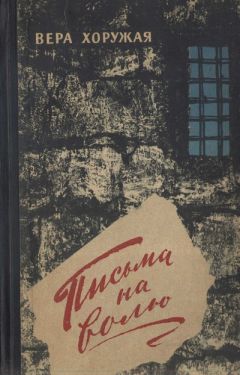Прохладное колымское лето незаметно переходит в морозную осень. Мы по-прежнему работаем на кирпичном заводе. В октябре 1953 года лагерное начальство торжественно объявляет о введении зачетов. Еще одна наша победа! Но начальство хитрит: день за два будут засчитываться только работающим в шахте. Прикидываю свой срок. Мне осталось пять с половиной лет, которые могу «скосить» в шахте за три. Так я оказался в бригаде шахтеров. Получаю экипировку и валенки. Там, на глубине 2-х тысяч метров, вечная мерзлота. Впервые спускаюсь в шахту. Попадаю на самую тяжелую работу. Как же потом будет обидно, что этот тяжелый труд окажется напрасным вместе с заработанными зачетами. Амнистия 1953 года нас, политических, не коснулась. Блатные получили по ней свободу, а мы продолжали «тянуть срок».
Те, у кого были 25-летние сроки, не охотно шли в шахты — надо беречь здоровье, ведь сидеть-то сколько…
Летом 1954 года начальство объявило приказ: отправить всех иностранцев «на материк». Уехали Иосиф Лернер, Станислав Нурко и кое-кто еще. Со Станиславом мы подружились еще в Норильске.
Зимой 1954-55 года я продолжал работать в шахте, когда начали кое-кого освобождать по отмененным старым приговорам.
В марте 1955 года старший лейтенант Андреев зачитал бумагу: меня вызывают на пересмотр дела. Решение датировано февралем, значит шло на Колыму месяц. Прощаюсь с товарищами. На попутной машине меня и еще нескольких заключенных отправляют в Магадан.
Глава десятая
Возвращение из Архипелага
Нам — нескольким зэкам, вызванным на переследствие, не повезло. На трассе был сильный мороз с ветром. Сели в кузов грузовика, прижавшись друг к другу, закрыв лицо шапками. Ветер задувал под бушлаты. Остановились на ночевку в поселке Ягодный. В бараках было много свободных мест. Утром пришел начальник лагеря и говорит:
— Спешить вам все равно некуда, придется сидеть в Магадане и ждать открытия навигации. Не лучше ли вам пока остаться здесь, в лагере.
Но в лагере оставаться мы не хотим и просим отправить нас скорее в Магадан. Через пару дней собирают группу. Снова конвой, грузовик и зимняя колымская трасса. Накануне мы прочли в многотиражке «Металл-Родине» о том, что образуется Магаданская область с центром — городом Магадан. В многотиражке сообщения о выполнении планов по добыче угля в разных лагерях. В углу — под названием газеты — гриф: «Вынос за пределы лагеря — запрещен». Там же сообщения об успехах на приисках имени Гастелло и Александра Матросова. Оказывается эта газета распространялась в лагерях для бытовиков и блатных, но мы о ней не знали.
На магаданской пересылке встречаем тех, кто выехал раньше и уже освобожденных. Целыми днями бродят они по городу, а ночевать приходят за колючую проволоку, на пересылку.
Лишь в конце апреля с материка пришел ледокол. Задымили пароходы. Освобожденные побежали в город покупать билеты, нас же повели под конвоем в бухту Нагаево, в порт. И снова трюм парохода, но на этот раз пассажирского. Где-то наверху, на палубе, наши товарищи, бывшие зэки. Передают нам курево, еду. Конвой не препятствует. Видимо понимают, что настало другое время. На пересылке в порту Ванино долго не задерживают, сажают в столыпинский и везут до Хабаровска. Отдых на пересылке. Большая зона с грязными бараками. Контингент — блатные. Прошу офицера зачитать бумагу, по которой меня вызывают на переследствие в Москву. Весь текст — несколько строк: «Определение Военной коллегии Верховного суда СССР от 19.02.1955 года № 4н-0553/55, вынесенное по протесту Генерального прокурора СССР Руденко. Коллегия в составе: полковника юстиции Лебедкова, полковника юстиции Конова и полковника юстиции Рыбкина отменила постановление Особого Совещания МГБ СССР № 55 от 24.09.1949 года». Запоминаю фамилии, даты, номер.
В бараке блатные «режутся» в карты. Матерщина, золотые фиксы, татуировка. Сидят на своих пуховых перинах и подушках — для блатных собственная постель — первое место. Надзиратель ведет еще одного блатного с постелью в барак. При его появлении в бараке все блатные встают и приветствуют. Говорит невнятно, видимо, из-за рубцов на губах:
— Что, суки есть здесь?
— Нет, Лева, — хором отвечают блатные, — здесь наша власть.
Вспоминаю рассказы «боцмана» в Экибастузе о вечной резне и войне между «законными ворами» и «суками», нарушившими воровские законы. Леву угощают салом с белым хлебом, чаем. Весь следующий день он лежит на солнце. Когда я прохожу мимо, он окликает меня:
— Эй, мужик, поди-ка сюда!
Я подхожу. Лева внимательно смотрит на мои хромовые сапоги.
— Уж больно у тебя прохоря хороши, может махнемся?
Я понимаю, что ему понравились мои сапоги, и он предлагает поменяться со своими, но он и безо всякого обмена может оставить меня босым.
— Понимаете, я выхожу на свободу. По законам перед выходом меня самого должны прибарахлить.
— Ты что, приблатненный? О законах наших толкуешь? А может ты фашист?
— Нет, не приблатненный и не фашист. Везут с Колымы в Москву на переследствие.
— Ну, коль так, другие пироги. Садись, тисни что-нибудь.
Я присаживаюсь и начинаю рассказывать про Москву. Вдруг подходит какой-то малолетка с здоровенным тесаком-финкой за пазухой.
— Левушка, уж так наточил, будь спок, ни одна сука в живых не останется.
Лева прячет финку в подушку и начинает рассказывать о себе. Он родом из Риги. Первый раз попал за воровство в 1940 году. Имеет на счету 7 лагерных убийств и столько же судимостей.
— Мне свободы не видать. Сроков у меня на десятерых хватит. В общей сложности к 150 годам подойдет. Жизнь моя пропащая. Остается только сукам мстить.
Первый раз в жизни встречаю еврея, вора и убийцу. Вечером Леву — «пахана» — веселят все блатные. Они поют под гитару: «Проснулся рано — город спит, не спит тюрьма, она давно проснулась, а сердце вдруг так сильно защемит, как будто к сердцу пламя прикоснулось…»
Продолжаем путь в Москву. В соседнем купе сидят женщины-блатнячки. Матерятся во всю, не стесняясь конвоя. Наколки у них особенные: «Умру за горячую е…», «Не умру под фраером», и т. д.
Остановка в Иркутске. Местная тюрьма очень похожа на омскую — старинное здание с толстыми стенами и низкими сводами. Глядя на высокий каменный забор Иркутской тюрьмы, думаю — далеко ли еще до Москвы? Знакомлюсь в камере с пожилым мужчиной — священник Яворский. Получил 3 года, но не по политической, а по бытовой. Финансовые органы, обнаглев, с каждым годом все больше увеличивали налог. Хотя приход был большой: приезжали со всей Нижегородской дороги, даже из Орехово-Зуево, на ремонт храма средств не оставалось. К тому же власти выдали книжку квитанций, которые надо было выписывать за крещение, за отпевание, за исповедание. А денег на ремонт церкви не давали. Так за «невыписанные квитанции» Яворского и посадили. На прогулках батюшка рассказывал живо и интересно о церкви, о вере. Потом, улыбаясь, говорил: