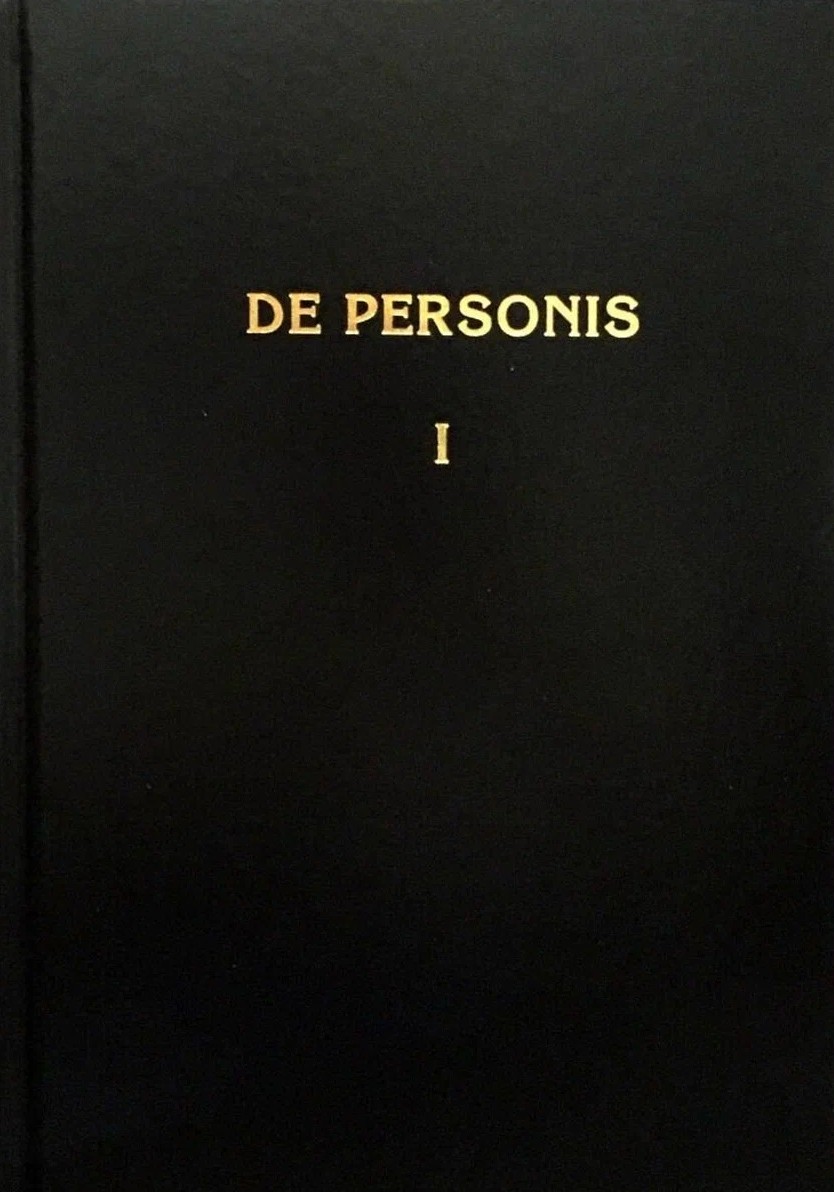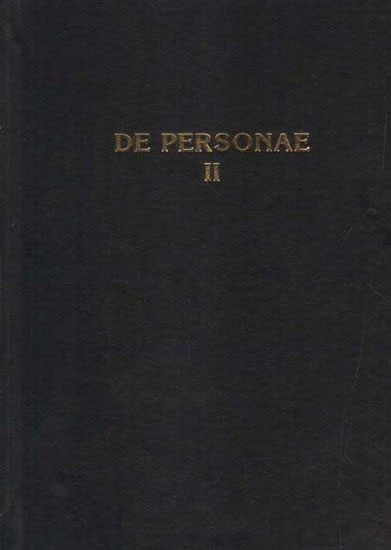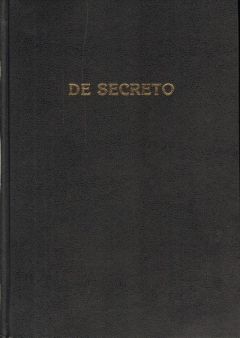отдельных кусков синоптической традиции Евангелие в целом не имеет аналогов. Оно вырастает из имманентного импульса развития, заключённого в складывающейся из разных мотивов традиции, и из культа Христа и мифа о Христе эллинистического христианства. «Евангелие — это оригинальное христианское творение» [72]. Бультманн даже не считает возможным говорить о Евангелии как литературном жанре: для него Евангелие есть величина, значимая в истории догм и культа.
Образ Иисуса Христа в Новом Завете, таким образом, является результатом борьбы и компромисса паулинистского «мифа о Христе» и «истории Иисуса» в том виде, в котором она была сохранена иудеохристианской традицией. Здесь — исток специфического биографизма Евангелий: «Тем самым обозначено намерение автора, — писал Бультманн о евангелисте Марке, — объединить эллинистическую керигму о Христе, чьим существенным содержанием является миф о Христе, каким мы видим его у Павла (в особенности — Флп 2:6 и далее; Рим 3:24), с традицией об истории Иисуса» [73].
Логика рассмотрения темы втянула нас в обсуждение важнейшего вопроса — о специфике того биографизма, который практиковался в новозаветных Евангелиях (и первых апокрифах) при описании жизни и земного служения Иисуса. Специально этот вопрос был поставлен крупным русским историком С. А. Жебелёвым в книге «Евангелия канонические и апокрифические. Общий очерк»: «Заканчивая нашу речь о Евангелиях, — заявлял учёный в концовке своей работы, — мы снова ставим вопрос, к какому же литературному жанру они относятся» [74]. Согласно Жебелёву, представляя собой произведения исторического характера, Евангелия не принадлежат к тому типу биографий, для которых классическим образцом являются «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. Ещё меньше оснований зачислять Евангелия по ведомству истории. Не относятся Евангелия и к числу произведений чисто назидательного характера. «В близкую ко времени возникновения Евангелий эпоху они были отнесены к разряду воспоминаний о “словах” и “делах” Христа». Жебелёв имеет в виду тексты типа «Меморабилий» Ксенофонта, где изложено не всё то, что помнил Ксенофонт о Сократе, но лишь то, что он считал достойным сохранить для потомства. «Не представляет ли собой и наше Евангелие таких же “Меморабилий” о “словах” и “делах” Христа? Не содержит ли и оно воспоминаний не о том, что сказал, что сделал Христос на протяжении всего своего общественного служения, но лишь повествование о том, что достойно воспоминания?» Жебелёв уподобляет Евангелие античным произведениям, воспевающим «доблесть» великого человека, его «арете». «Если исключить четвёртое Евангелие, которое должно рассматривать как произведение, особняком стоящее в евангельской литературе по присущим ему специфическим свойствам, то синоптические Евангелия, в их повествовательной части о “делах” Христа, носят на себе ясные следы влияния эллинистической ареталогической литературы» [75].
Весьма интересно то обстоятельно, что Жебелёв вслед за Норденом фиксирует наличие связи между «Жизнью Аполлония Тианского» Филострата и новозаветными текстами, но на ареталогической подкладке: «Биография Аполлония, изложенная Филостратом на основании рассказов некоего Дамида, спутника Аполлония, соприкасается, как показали новейшие исследования, не только в общем, но и в деталях, с каноническими и, особенно, апокрифическими “Деяниями апостолов”. В состав ареталогий входили повествования о различного рода чудесах, снах, пророчествах. Из всех этих повествований создалась литература эллинистических рассказов о чудесах или вообще о чудесном, и христианская литература в этом отношении примкнула к существовавшей уже эллинистической литературе» [76]. В целом Жебелёв пришёл к заключению, что синоптические евангелия в их повествовательной части, где говорится о «делах» Христа, носят на себе ясные следы влияния эллинистической ареталогической литературы.
Более дифференцированный подход к вопросу о жанровой специфике Евангелий и античном влиянии на евангелистов проводился в работах другого отечественного исследователя — Сергея Аверинцева. Аверинцев является убеждённым спецификатором, отстаивающим своеобразие Нового Завета, которое позволило ему оторваться и от иудейских, и от античных корней. «Слово “евангелие” означает “благовестив”, и оно применялось к христианской проповеди в целом, — указывает Аверинцев. — Каждое Евангелие не только рассказ, но и прежде всего “весть”, не только жизнеописание Иисуса, но и прежде всего проповедь о Христе. В различных Евангелиях проповеднический и повествовательный элементы находятся в различных соотношениях; однако подвижное равновесие между ними никогда не исчезает. К этому следует добавить, что евангельские тексты — не только и не столько литература, рассчитанная на одинокое, “кабинетное” чтение, сколько цикл так называемых перикоп для богослужебно–назидательного рецитирования на общинных собраниях; они с самого начала литургичны, их словесная ткань определена культурным ритмом. Надо сказать, что распространённый миф о раннем христианстве без обрядов и таинств не соответствует исторической действительности; внешняя примитивность обрядов молодой и гонимой церкви шла рука об руку с таким всеобъемлющим господством самого культового принципа, что литературное слово евангельских текстов, тоже очень простое и необработанное, есть по своей внутренней установке обрядовое слово, словесное “действо”, “таинство”. Оно предполагает скорее заучивание наизусть, ритмическое и распевное произнесение и замедленное вникание в отдельные единицы текста, чем обычное для нас читательское восприятие» [77]. Меня не может не радовать, что такой текст, такое изложение существуют на русском языке, но после новаторских исследований Дибелиуса и Бультманна их никоим образом нельзя признать оригинальными; всё это уже было сказано ими в начале 20‑х годах прошлого столетия.
Для литературной формы Евангелий, считает Аверинцев, характерен сильный семитический колорит; по–видимому, это было жанровой традицией, от которой не отступил даже такой писатель с чисто греческими навыками речи и мышления, как автор третьего Евангелия. Прежде всего евангельские тексты пронизаны влиянием языка и стиля Септуагинты, но встречаются в них и обороты, совершенно обычные в рамках арамейского или сирийского языка, но экзотически выглядящие на греческом. Согласно Аверинцеву, литературная форма Евангелий непонятна в отрыве от традиций ближневосточной учительной прозы: Ветхий Завет, сирийские поучения Ахикара и т. д. Проза этого рода подчинена назидательности; её художественные возможности лежат не в полноте изображения, а в силе экспрессии, не в стройности форм, а в проникновенности интонаций. Аверинцев указывает на такие жанры назидательной иудейской литературы, оказавшие воздействие на Евангелия, как притча (машал), заповеди блаженства, рассказ о деяниях почитаемого проповедника (Маасе): маасе обычно излагает ситуацию, спровоцировавшую какое–нибудь передаваемое из уст в уста назидательное изречение или поступок, жест, выходку «учителя». Из таких ячееподобных маасе, по Аверинцеву, сложено евангельское повествование.
Отличие от еврейской традиции состоит в том, что авторы Евангелий стремились объединить «логии», как стали называть маасе христиане, в связный рассказ, сплавить фрагменты предания в единый религиозный эпос. Для этого в еврейской литературе предпосылок не было; не воспользовались евангелисты, за исключением Луки, и приёмами греко–римской литературы, биографической прозы. Так, «перед лицом трудностей композиционного порядка автор Евангелия от Марка не мог извлечь для себя никакой пользы из опыта греко–римского биографизма»