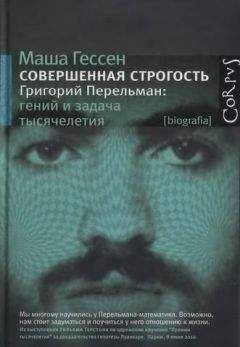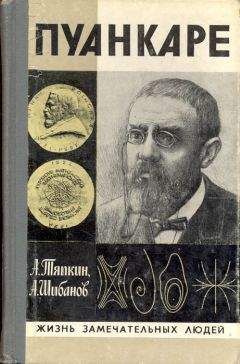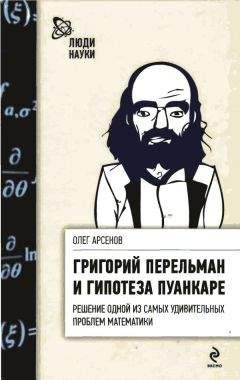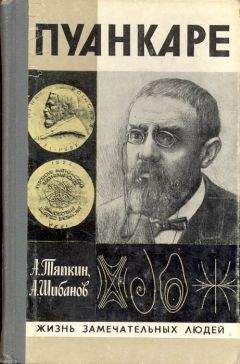Похоже, что за четверть века воспоминание о Перельмане как об уверенном в себе человеке и математике заместилось у Самборского впечатлением о Перельманс-атлете. Гриша был бледен, чуть полноват, ростом гораздо ниже коллег по сборной. Он точно не был боксером. Он был олимпиадным математиком, уверенным в том, что теперь его никто не побьет.
Перельман вел себя дерзко. Самборский вспоминал: "Однажды один из наставников упрекнул его: "Знаешь, Гриша, все знают производные, а ты — нет". Это часть математического анализа, и, по правде, школьник это знать не должен. Перельман ответил: "Ну и что? Я все решу и без этого". Прозвучало это нагло, но он был прав". После Сергей Самборский прибавил (кажется, он запомнил Перельмана лучше, чем ему кажется): "Думаю, он показывал гораздо меньше, чем знал". Возможно, Перельман знал производные. Но он приехал для того, чтобы решать задачи, а не доказывать что-то наставникам.
Тем не менее все поняли, кто есть кто. Преподаватель Абрамов запомнил Григория Перельмана как единственного, кто мог справиться с любым олимпиадным заданием. Самборский охарактеризовал это положение так: "Он лучше всех решал задачи. Настолько лучше, что можно было бы сказать — он был лучше всех остальных вместе взятых. То есть был Гриша — и были все остальные".
В итоге к Перельману прибавились еще пятеро членов сборной. Их место в списке соответствовало количеству решенных задач. Шестым номером оказался 15-летний Александр
Спивак. Он был русским и приехал из уральской деревни в Москву, чтобы учиться в колмогоровском интернате. Ему было невдомек, что фамилия его походит на еврейскую. Поэтому он не понял, почему он неожиданно переместился в списке вниз, уступив шестое место этническому украинцу, который числился седьмым.
Для школьников зимняя школа состояла из череды состязаний, моделирующих обстановку на настоящей олимпиаде, изматывающих занятий по физподготовке, лекций известных математиков (имена многих были для юных математиков легендарными) и назойливой, но сравнительно тихой трескотни чиновников из Минобразования и партийных функционеров. Они осаждали школу и по временам отлавливали юношей в коридоре, чтобы лишний раз напомнить о том, какая это честь — представлять великий Союз на международной арене. Тренеры тратили половину времени на занятия, половину — на нейтрализацию беспокойных гостей. Выбора у них не было.
Включение Григория Перельмана в сборную, казавшееся на первый взгляд неминуемым, потребовало от его наставников тяжелой борьбы: фамилия кандидата для чиновников звучала вызывающе. Наставники Перельмана задействовали все свои возможности, и в результате бывший шестым Спивак со своей "подозрительной" фамилией был принесен в жертву.
Когда я встретилась с Александром Спиваком четверть века спустя, он показался мне школьником-переростком: громадный, с копной седеющих волос, в чем-то пестром и вязаном. Он попросил меня о встрече не в кафе, чтобы избежать дискомфорта от присутствия множества людей, а у меня дома. Он преподает математику в одной из московских математических спецшкол. Кроме того, он тратит значительную часть своего времени на составление сборников задач по математике для одаренных детей. Его манера отвечать на вопросы была обезоруживающей.
Вы помните, — поинтересовалась я, — как приехали в Черноголовку? Это случилось утром, днем или вечером?
Не вижу в этом ничего интересного, — заметил Спивак. — Было бы гораздо интереснее спросить у меня, где теперь все, кто там был.
— Ну хорошо. И где же?
— Не знаю.
Мои вопросы, касающиеся отношений между членами математической сборной, успеха тоже не имели. Спивак не видел ничего примечательного в совместном опыте, который, казалось бы, мог их сдружить. Когда я возразила, что стресс объединяет, он пустился в рассуждения о сложности задач, предлагаемых на разных состязаниях.
Однако Спивак сохранил яркие, эмоциональные воспоминания о том, как он старался попасть в состав команды. Он понимал, зачем это нужно — для того, чтобы поступить в университет. Даже если Спивака и не тревожило то, что фамилия его звучала как еврейская, он считал (по всей вероятности, справедливо), что не сможет написать вступительное сочинение. "[Я понимал, что] иначе я два года проведу в армии, а это, в общем, очень серьезно. И я не знаю, что бы со мной было после армии", — рассказал мне Спивак. Он начал пробивать себе дорогу на Международную математическую олимпиаду. Он просил, вынуждал своих наставников и чиновников кричать друг на друга и наконец, все еще будучи седьмым в списке, добился того, чтобы ему тоже разрешили выполнить так называемое заочное задание. Он получил, как и все, книжку с задачами, которые кандидаты в сборную должны были решить в промежуток между зимней школой и Всесоюзной математической олимпиадой в апреле.
В апреле юноши оказались в Одессе. Они провели на Черном море два дня, решая самые трудные задачи, какие им до тех пор попадались (по общему мнению, задания на Всесоюзной математической олимпиаде были сложнее, чем на международной).
Спивак чувствовал, что решается его судьба, и выложился полностью. Он работал лихорадочно, отчаянно и заполнил доказательствами две пухлые тетрадки. Перельман — если бы он был способен увидеть мир таким, каков он есть, — тоже мог бы сказать, что судьба его на кону. Но его уверенность в себе и в справедливости существующего порядка вещей были несокрушимыми. Он делал то, что и всегда: читал условие задачи, закрывал глаза, откидывался на стуле и начинал быстро тереть штанины руками. Потом потирал руки и, открыв глаза, записывал очень короткое и точное решение. Когда ему попадалась задача сложнее, он что-то про себя мычал. Перельман исписал всего несколько страниц. И он и Спивак получили отличные баллы.
В последний день соревнований после подведения итогов семеро победителей (в их числе Спивак) отправились с Колмогоровым на прогулку по Одессе. Ни Спивак, ни Самборский не запомнили, о чем говорил академик (он уже страдал от болезни Паркинсона, и понимать его речь — тем более что ходил академик по-прежнему быстро — было трудновато), но оба запомнили, что он неожиданно повел всех на пляж. "Ветер был пронизывающий, — вспоминал Самборский. — Мы пошли, потому что боялись его оставлять — он тогда уже не очень хорошо видел. На пляже Колмогоров разделся и направился к воде. Я боялся даже смотреть на нее — она была настолько холодная, что, кажется, там плавали льдинки. Волны свинцовые, пена, ветер настолько сильный, что сбивал с ног. Никто следом в воду не полез".
Вскоре появился смотритель: "Ребята, а вы бы дедушку-то позвали, иначе утонет — холодно же". Ребята переглянулись и решили, что "спасать дедушку" они не будут. По словам Спивака, было понятно, что "никто из нас больше двух-трех метров не проплывет". Самборский же вспомнил, что никто не хотел возражать Колмогорову.