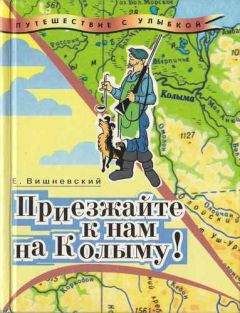Немедленно был заказан жеребец, и Петр Степанович вечером поехал в город к Кате. Жеребец смело выстукивал по снегу свой такт, саночки весело неслись по наезженной дороге, и Петр Степанович деловито сидел в санях, как будто бы ехал не по своим личным делам, а по делам союза. Люди же вероятно думали, давая дорогу Петру Степановичу:
– Вот, видать, у человека дела: против ночи и то приходится ехать из дому!
Петр же Степанович презрительно посматривал на сторонившихся людей, не подозревавших даже, в какие грандиозные мысли погружены мозги встреченного ими человека. Признаться, Петру Степановичу немножко обидно было, что люди смотрели на него, как на кого-то обыкновенного, но в душе, как в масле, плавало успокоение: если, мол, еще не знаете, кто я такой, то в будущем… Тут успокоение прерывалось, перемешивалось с неопределенными сомнениями, сформировавшимися желаниями – между нами говоря, честолюбивого порядка, и… Петр Степанович на одном из поворотов зачем-то даже стегнул и так горячего жеребца. Бесформенно и как-то второстепенно фиксировались в голове Петра Степановича проносившиеся дома, улицы, телефонные столбы, мазнула по глазам кладбищенская церковь, вывеска конторы лесничества; мимолетно через мозги, как через фильтр просачивается воспоминание о песнях, какие распевались реалистами ночью на кладбище, вспоминалось, что в этом доме, с зелеными воротами, квартировал когда-то член правления земской управы, помещик Филипошин; показалось, что жеребец как бы нахрамывает на левую заднюю, и мысли обратились к тому, что, вероятно, подкова сильно притянута, стала припоминаться по анатомии животных мускульная работа лошади, всплыл профессор Палладии с его очками и свежей физиономией… Ну, в общем, попадало в голову самотеком все, что может туда попадать, в то время как человек едет в вагоне, на санях, или даже идет пешком, с нетерпением ожидая конечного пункта, когда надо открывать фортку и входить в дом. Петр Степанович подъехал к дому, где жила Катя, привязал к оградке жеребца и прошел во двор. Через минуту Петр Степанович удивленной Кате говорил:
– Здесь же ничего особенного нет! Приедете туда, побываете в церкви, посидите за столом, посмеетесь, и я вас благополучно привезу обратно.
– Но почему вам, Петр Степанович, взбрело в голову меня пригласить? – краснея и стесняясь, удивлялась Катя, поистине хорошенькая, что снова не ускользнуло от зорких глаз Петра Степановича.
– Ну, вот вам… просто… да что здесь говорить! Ведь это пустяк: заеду я завтра утром, заверну вас в теплый тулуп, ножки прикрою бараницей…
– Дело не в этом, Петр Степанович! – воскликнула Катя, прикрывая свои прекрасные черные глаза длинными ресницами и продолжая смущаться. – Я вообще не понимаю…
В общем, на следующий день, в воскресенье, Катя сидела рядом с Петром Степановичем в саночках, и рысак их обоих мчал в направлении Карачовки, и вскоре они увидели верхушку церкви, где должен был венчаться Иван Григорьевич со своей Зиной. По дороге руки у нашего героя так и чесались, так и чесались обнять Катю, прижать близко-близко к сердцу, хотя она была в тулупе, но благоразумие брало верх, и Петр Степанович не решался провести в жизнь свои желания. Неизвестно, подозревала ли Катя обо всех этих желаниях нашего героя или она просто сидела рядом и в это время думала: надо было про запас взять еще две булавки.
Так или иначе, жеребец Буртный благополучно доставил их к месту назначения, и Петр Степанович ни разу не попробовал обнять Катю, преодолев всю тягучесть такого желания, решив без подготовки самой Кати и более близкого знакомства никаких таких безобра…, то есть вести себя с Катей обыкновенно, но любезно. Дорогой Петр Степанович затронул вскользь атомы, коснулся человеческой души, ознакомил Катю вкратце со своим мировоззрением и чуть-чуть проговорился, что он не прочь бы жениться вообще. Разговор дорогой был так подобран Петром Степановичем, что, по его расчетам, когда они приедут и разденутся в доме невесты Ивана Григорьевича, Катя должна будет уже смотреть на Петра Степановича, как на человека более или менее близкого, выделяющегося среди остальных гостей.
Действительно, когда они оба разделись, перездоровались со всеми и убедили всех, кто интересовался, что они не замерзли, Петр Степанович незаметно расчесал свои русые волосы, вытер пальцем, на всякий случай, уголки глаз, взял на пуговицу хлястик бокового кармана во френче, – тогда все ходили во френчах, – и выпятил грудь так сильно, а ногами стучал так твердо, что, конечно, Катя, по мнению Петра Степановича, должна была им залюбоваться. К сожалению, мы не можем сказать ни да, ни нет, нам неизвестно, как смотрела Катя на Петра Степановича в то время. Одно мы заметили, что она себя не совсем ловко чувствовала среди всей этой сутолоки, и, видно, была рада, найти укромный уголок, на скамеечке, возле тут же стоявшей двуспальной кровати.
Через час надо было ехать в церковь. Иван Григорьевич толковал Петру Степановичу:
– Я хотя и не верю в разных там богов, но что же это за брак, если не венчаются? Кроме того, и батьки Зины будут спокойны, и брак как-то крепче.
Родители Зины ходили между гостей с озабоченными лицами, насильственно улыбались, а в головах у них ходили мысли разные. У отца, вероятно:
– Вот неприятность: раньше выходило из пуда сахара восемь бутылок первака и восемь вторяка, а теперь почему-то накапало первака шесть, а вторяка двенадцать бутылок.
А мать думала:
– Комод, кровать, сундук и шесть стулок я Зине отдам, но гардероба ни-ни-ни, ни в коем случае! Пусть сами наживают!
В голове Зининой мамы сидели пироги, лапша, кисель, скатерти, посуда, подвенечное платье, зять, неудавшееся желе и другая свадебная канитель, и в то же время гостям надо было улыбаться и говорить любезности совершенно по иным поводам и причинам. В голове же Зининого папаши бродили самогон, сено и то количество его, какое съедят лошади гостей, пока отбудется свадьба, думал он и о крюке, что вырван санями из ворот, о том, что коровам холодно и что расходы вообще большие в связи со свадьбой. Гости же и не подозревали, что у папаши и мамаши такие мысли, – иначе они и не беспокоили бы их своими пустыми разговорами, вопросами и даже капризами. Кума лезла к мамаше Зины с тем, что она ждала телочки от коровы, а корова отелилась бычком; Матрена Степановна почему-то интересовалась, поедет ли мамаша Зины в Харьков на этой неделе или нет; Степан Кириллович десятый раз хотел мамаше Зины рассказать, как он выдавал свою дочку замуж и сколько пришлось израсходовать денег; Таисия Гавриловна в третий раз требовала показать ей то полотенце, что вышивала недавно Зина, когда брали у нее узор. Да мало ли кому чего и что хочется говорить, но обязанность мамаши – быть со всеми любезной, заботливой, гостеприимной, а что там пироги или гардероб у тебя в голове, то кому до этого дело? Папаша же умудрялся увиливать от вопросов и разговоров, а только усмехался и куда-то спешил, спешил… Невесту никто не осмеливался беспокоить: ее одевали в спальной комнате, куда даже вынесли из залы зеркало. Из спальни доносились иногда обрывки замечаний дружек, одевавших невесту: