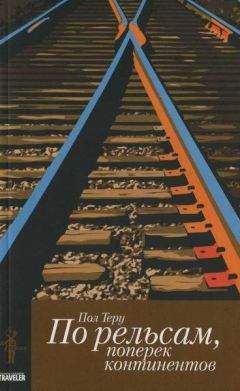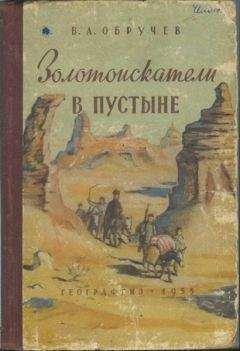Там были еще и другие кактусы: одни походили на выгоревшие факелы, а другие — на более привычные канделябры. Деревьев не было совсем. Солнце, уже набравшее яркость в эти ранние часы, придавало оттенок синевы пологим холмам, уходившим вдаль, и играло на остриях больших колючек, как на стальных иглах. Длинные утренние тени казались неподвижными и темными, как бездонные озера, и лежали на грубой земле прямыми темными полосами. Мне стало интересно, насколько холодно сейчас там, снаружи, пока я не заметил человека — единственного человека в этой пустыне — в повозке, запряженной осликом, взбирающейся на холм по дороге, которая вполне могла оказаться пересохшим руслом ручья. Этот человек был одет довольно тепло: сомбреро надвинуто на самые уши, лицо спрятано в толстом шерстяном шарфе, и наглухо застегнута теплая куртка, давно превратившаяся в живописные лохмотья.
Все еще было очень рано. По мере того как солнце поднималось на небе, день становился все теплее, пробуждая к жизни аромат здешних мест, пока неповторимая мексиканская смесь блеска и нищеты, синего неба и грязи под ногами не захватила меня всего. На фоне ярких небес передо мной предстал мрачный город Бокас. Здесь росли целых четыре зеленых дерева, и была церковь на холме, чья беленая колокольня покраснела от пыли, и кактусы такие большие, что их колючие стволы служили привязью дня скота. Но бо́льшая часть города притворялась тем, чем не являлась на самом деле. Церковь оказалась домом, дома — амбарами, большинство деревьев — кактусами, и без плодородного слоя почвы жалкие посадки — красный перец да кукуруза — были лишь скелетами растений. Ребятишки в лохмотьях собрались было, чтобы поглазеть на поезд, но вскоре, услышав автомобильный гудок, умчались по пыльной дороге навстречу фургону с рекламой кока-колы. Он тащился к единственному в городе магазину, по самые ступицы увязая в дорожной пыли.
У мексиканцев почему-то в обычае устраивать городскую свалку вдоль всего полотна железной дороги. Эти отбросы беднейших слоев населения на редкость отвратительны. Они курятся зловонным дымом и при этом настолько омерзительны, что даже огонь их толком не берет. На свалке в Бокасе, являвшейся неотъемлемой частью вокзала, в одной куче отбросов копалась пара собак, а в другой — пара свиней. Эти животные почти не обращали внимания на поезд и продолжали свое занятие, когда мы подъехали к вокзалу, и тогда я разглядел, что обе собаки хромают, а у одной из свиней не хватает уха. Эти жалкие подобия животных вполне соответствовали жалкому подобию города, оборванным детям, сараям с дырявой крышей. Фургон с кока-колой остановился. Теперь дети смотрели, как человек тащит через дорогу перепуганную до смерти свинью. Ее задние ноги были связаны, и мужчина грубо швырнул визжащую тварь через рельсы.
Я никогда не считал себя большим любителем братьев наших меньших, но все-таки одно дело — их не любить и другое — мучить и калечить. И я с некоторых пор совершенно уверился в существовании связи между состоянием домашних животных и состоянием хозяев, проявляющих к ним жестокость. Они становятся похожи друг на друга: и у собаки, избитой кнутом, и у женщины, колющей дрова, вы обнаружите одинаковый загнанный взгляд. И чаще всего именно эти избитые люди избивают своих животных.
— Бокас, — сообщил проводник, — это значит грязь, — он причмокнул губами и засмеялся.
Я спросил по-испански:
— Почему ты не сказал, что везешь контрабанду?
— Я не контрабандист.
— А что насчет той контрабанды, которую ты подложил ко мне в купе?
— Это не была контрабанда. Это просто всякие штучки.
— Так почему ты спрятал их у меня?
— Им было лучше у вас, чем у меня.
— Но тогда почему ты забрал их у меня?
Он замолчал. Я решил плюнуть и оставить все как есть, но вспомнил, что из-за него едва не угодил в тюрьму в Нуэво-Ларедо. И я снова сказал:
— Ты положил что-то ко мне в купе, потому что это было контрабандой.
— Нет.
— А значит, ты контрабандист.
— Нет.
— Ты боишься полиции.
— Да.
Оборванец снаружи снова поволок свинью через дорогу. Теперь он направлялся обратно, к пикапу, стоявшему возле вокзала. Свинья надрывалась от визга и извивалась всем телом, разбрасывая мелкие камешки. Она совершенно обезумела: не требовалось большого ума, чтобы даже эта тварь догадалась об уготованной ей участи.
— Полицейские обижают нас, — сказал проводник. — Но они не обижают вас. Понимаете, это не как в Соединенных Штатах — этим людям нужны только деньги. Понимаете? — И он выразительно сжал в кулак свою смуглую руку. — Вот, что им нужно, — деньги.
— А что было в пакете? Наркотики?
— Наркотики?! — Он даже сплюнул через дверь, демонстрируя мне смехотворность такого вопроса.
— Но тогда что?
— Кухонные принадлежности.
— Ты вез контрабандой кухонные принадлежности?
— Я ничего не вез контрабандой. Я купил в Ларедо кухонные принадлежности. И я вез их домой.
— А разве в Мексике не продают кухонных принадлежностей?
— В Мексике продают одно дерьмо, — отрезал он. Кивнул и добавил: — Конечно, у нас есть кухонные принадлежности. Но они очень дорогие. А в Америке они дешевые.
— Таможенники спрашивали, мои ли это вещи.
— И что вы им сказали?
— Ты же сказал: «Не говорите ничего». Я ничего и не сказал.
— Вот видите? Ничего страшного!
— Но они ужасно разозлились.
— Еще бы! Но что они могли поделать? Ведь вы турист!
Раздался свисток поезда, заглушивший вопли свиньи. Мы тронулись из Бокаса.
— Вам, туристам, все сходит с рук, — сказал проводник.
— Вам, контрабандистам, все сходит с рук, потому что есть мы, туристы.
Позади нас, в Техасе, обведя широким жестом главную улицу, новый торговый центр и деловую часть города, техасец заявит: «Всего десять лет назад здесь была голая пустыня!» Мексиканец же поступит совершенно иначе. Он постарается отвлечь вас от жалкого настоящего, погрузив в славное прошлое. К середине дня, показавшегося мне прохладным на рассвете и превратившегося постепенно в настоящую душегубку, мы подъезжали к Сан-Луис-Потоси. Я обратил внимание на голых ребятишек, на хромых собак и на поселок примерно из пяти десятков товарных вагонов, стоявших на заброшенных железнодорожных путях. Мексиканцам достаточно занавесить вход в товарный вагон выцветшей тряпкой, обзавестись выводком детей и цыплят и включить на полную мощность транзистор, чтобы называть это бунгало своим домом. Это была жуткая трущоба, в которой было нечем дышать из-за вони от разлагающихся экскрементов, однако мексиканец у подножки спального вагона сообщил мне с ослепительной улыбкой: