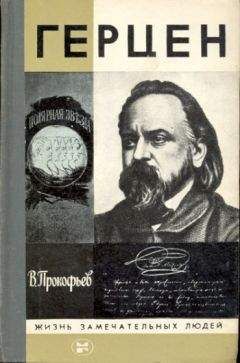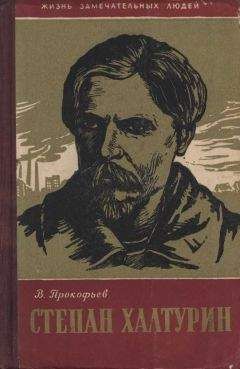Наверное, он бы и не поехал в конце концов, но явился Сенатор, значит, вновь начнется домашний допрос. Тщательно одевшись, Герцен выскользнул из дома. Застоявшиеся лошади мигом домчали до Ходынки. Скачки уже близились к концу. Многие любители, и особенно те, кто бывает на подобных состязаниях только ради того, чтобы на других посмотреть и себя показать, уже Уехали. Герцен еще по дороге на Ходынку ругал себя: зачем поехал, а когда заметил, как пыль, поднятая сотнями лошадиных копыт, оседает на шляпы, цилиндры, шляпки присутствующих, и вовсе решил не задерживаться здесь, но в это время его окликнули из старой, екатерининских времен кареты. Он сначала узнал противную приживалку княгини Хованской — Марью Степановну Макашину, а рядам встревоженно улыбающееся лицо кузины Наташи.
Наташа вышла из кареты, и первый вопрос ее был:
— Что ваш друг?
Именно тот вопрос, который он не хотел бы сегодня услышать. Но кузина спрашивала с таким нежным участием, так взволнованно, что Герцен словно впервые увидел эту девушку, о существовании которой знал всю жизнь, встречался и… никогда не имел для нее достаточно времени.
Скачки кончились. Завсегдатаи разошлись, а они двинулись к близлежащему Ваганьковскому кладбищу, с церковью святого Николая. Подошли к ограде, остановились. Вид кладбища, заунывные удары колокола по покойнику, которого отпевали в церкви, только усугубили и без того мрачное настроение Александра. И он не сдержался:
— Не могу видеть эти золотые купола, эти могилы, а колокол звонит по живым.
— И эта колокольня ничего больше не говорит вашему сердцу? Взгляните, куда она указывает. Там утешатся все скорби.
Герцен посмотрел на Наташу с удивлением. Он, конечно же, не знал, что его двоюродная сестра не расстается с Евангелием, что по утрам, когда в доме княгини все спят, она молится, но не перед иконой, а под чистым небом, во дворе, молится даже за княгиню, молится и за него, Александра, который давно уже стал для Наташи средоточием всех ее помыслов, мечтаний и интересов.
— Там… Но Огарев гибнет здесь, гибнет за любовь к людям, гибнет неоцененный, неузнанный.
— Неужели вы это говорите о рукоплесканиях? Сейчас мы видели, как их расточают лошадям. Одни поденщики требуют награды.
Не слова, тон, которым все это было сказано, сочувствие к его горю, боль за Огарева подействовали на Герцена успокаивающе. Они еще долго говорили об Огареве, "и грусть моя улеглась".
— До завтра, — сказала Наташа и подала руку брату, "улыбаясь сквозь слезы".
— До завтра, — ответил Герцен и потом "долго смотрел вслед за исчезавшим образом ее"…
Они не знали, что этого "завтра" у них уже нет.
Второй час ночи. Герцен проснулся от того, что кто-то почтительно, но настойчиво тряс его за плечо. Еще не рассвело, и так хорошо спалось. Раздетый и испуганный камердинер Ивана Алексеевича как продолжение дурного сна.
— Вас требует какой-то офицер.
Камердинер не знал какой. Герцен же догадался сразу. И не ошибся — в дверях залы стоял полицмейстер Миллер.
В "частном доме", куда доставили Герцена, арестанту и прилечь было негде — несколько грязных стульев и два стола, заваленных бумагами. Дворецкого, посланного вслед за полицейской каретой с подушкой и шинелью, к Герцену не допустили, дворецкий плакал и кланялся барину, увидев его в окне.
Утром явились невыспавшиеся, полупьяные писарь, унтер-офицер, квартальные и жалобщики. Герцен с удивлением, с интересом и отвращением наблюдал, как содержательница публичного дома жаловалась на сидельца, что тот обругал ее непотребными словами. Крик, гам, квартальный грозил обоим и кричал громче всех, явившийся частный пристав выпроводил "сволочь" с бранью, наорал на квартальных… Герцен через много лет писал: "Для меня эта сцена имела всю прелесть новости, она у меня осталась в памяти навсегда; это был первый патриархальный русский процесс, который я видел".
К вечеру первого дня заключения нашлась для Герцена комната под самой каланчой Пречистенской части. Старенький диван вполне устраивал уставшего, издерганного арестанта.
А потом потянулись дни. Герцен быстро осваивался с тюрьмой. Частный пристав на деньги Герцена купил ему засаленную итальянскую грамматику, обеды привозили из дома, друзья присылали вина, и Герцен с удивлением заметил, что привык "к тишине и совершенной воле в клетке… — никакой заботы, никакого рассеяния", Но, конечно, такая привычка дается человеку только тогда, когда "он имеет сколько-нибудь внутреннего содержания". К арестанту был приставлен квартальный, маленький, черненький, рябенький. В его обязанности входило сопровождать Герцена на допросы.
Между тем по предписанию московского генерал-губернатора Д.В. Голицына была учреждена следственная комиссия. В нее вошли: московский обер-полицмейстер Л.М. Цынский, жандармский полковник И.Ф. Голицын, жандармский полковник Н.П. Шубинский, обер-аудитор Н.Д. Оранский, старший полицмейстер Микулин.
24 июля Герцена вызвали на первый допрос. Большая зала, довольно красивая, но портрет Павла I, нахмуренного, нарушает ее интерьер. Император как напоминание о необузданности властей и свирепости полицейских. Герцен, войдя в залу, прежде всего заметил портрет, а затем уже пятерых в мундирах и одного в рясе. Священник дремал, остальные, развалясь в креслах, курили и весело переговаривались. Обер-полицмейстер Цынский подал Герцену листок, на котором стояло 15 вопросов.
Вопросы были построены так, чтобы выведать знакомства подследственного, его корреспондентов, связи. Александр Иванович был скуп в ответах, все время подчеркивая, что вел домашний образ жизни, "имел больного отца", из знакомых перечислил только тех, кто мог слыть образцом благонадежности, ну и, конечно, Огарева, Пассеков, Сатина, письма которых были найдены в его бумагах. Герцен с чистой совестью отрекся от вопроса о принадлежности к тайному обществу. И только на один вопрос (14) ответил не таясь.
"14-й. Не случалось ли вам в Москве или вне оной быть у кого-либо в таких беседах или сообществах, где бы происходили вольные и даже дерзкие против правительства разговоры; в чем они заключались, кто в них участвовал, не было ли кем вслух читано подобных сочинений или пето таких же песен?
14… я редко бывал в многочисленных беседах и никогда в таких, где бы делались бесчинные и дерзкие против правительства разговоры. С знакомыми же моими имел разговоры о правительстве, осуждал некоторые учреждения и всего чаще стесненное состояние крестьян помещичьих, доказывая сие произволом налогов со стороны господ, обремененьем трудами, и находил, что сие состояние вредит развитию промышленности… Разговоры о крестьянах имел я со многими знакомыми и родными, в том числе мой батюшка, Лев Алексеевич Яковлев, Николай Николаевич Бахметьев, Николаем Платоновичем Огаревым, коего мнения о сем предмете не помню, и др. Они по большей части опровергали меня. Вообще сии разговоры были редки, ибо по большей части мои беседы касались до ученых предметов. Песни знал я Беранжера и некоторые другие, более нечистые, нежели возмутительные. Лет пять тому назад слышал я и получил стихи Пушкина "Ода на свободу", "Кинжал", Полежаева — не помню под каким заглавием, — от г. Паца, кандидата Московского Императорского университета, но, находя неприличным иметь таковые стихи, я их сжег и теперь, кажется, ничего подобного не имею".