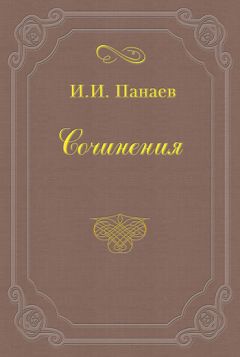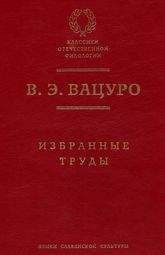Г. Краевский, как я уже заметил, находился в очень коротких сношениях с Плетневым, виделся с ним в течение лета почти ежедневно и нередко сопровождал его в отдаленных прогулках. Петр Александрович был тогда неутомимым ходоком. Он выхаживал по крайней мере верст до 25 утром и вечером.
Г. Краевский, отличавшийся аккуратностию во всем и крайнею заботливостию о своем здоровьи, начал не только подражать Плетневу, но даже соперничать с ним относительно ходьбы. Вообще, по моему наблюдению, г. Краевский в юные свои годы легко подчинялся на время тем, с которыми сходился и которых почему бы то ни было принимал за авторитеты. Он усвоивал себе нередко их образ мыслей и подражал им даже во внешних мелочах, стараясь, впрочем, сохранить перед своими знакомыми вид строгий и самостоятельный. Инициативы у него не было никакой… Нельзя, впрочем, не заметить, что он пытался сделать некоторые грамматические перевороты и между прочим дать большую самостоятельность букве ж. Все это, однако, не принялось и вскоре забыто было самим изобретателем.
Соболевский звал в это время Краевского – Краежским, петербуржским журналистом…
Довольный моими литературными знакомствами и связями, я давно уже мечтал о том, чтобы устроить у себя литературный вечер в большом размере и пригласить к себе всех литераторов.
При первой возможности я осуществил мою мысль: созвал почти всех, за исключением Булгарина и Греча, накупил вин, осветил комнаты, даже уставил их цветами, и заказал ужин. Я жил тогда в Грязной улице, в доме Диммерта, где впоследствии останавливался у меня Белинский.
Часу в девятом вечера комнаты мои были набиты битком. В кабинете (я это очень живо помню) расположились Полевой, барон Розен, Краевский и Бенедиктов… Надобно заметить, что перед этим только что появились разборы стихотворений Бенедиктова: в «Телескопе»– Белинского, в «Литературных прибавлениях»– Краевского (в то время еще все статьи в «Литературных прибавлениях» приписывали самому редактору) и Полевого в «Сыне отечества», редакцию которого он принял, переселившись в Петербург. Г. Краевский безусловно восторгался поэтом, а Полевой почти повторил о нем то, что высказал Белинский в «Телескопе».
Появление стихотворений Бенедиктова произвело страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире. И литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова. О статьях Полевого и Белинского они отзывались с негодованием и были очень довольны статьею профессора Шевырева, провозгласившего Бенедиктова поэтом мысли. Жуковский, говорят, до того был поражен и восхищен книжечкою Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками. Один Пушкин остался хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на вопросы: какого он мнения о новом поэте? – отвечал, что у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей; к этому он ничего не прибавлял более… Но обратимся к моему литературному вечеру.
Полевой и барон Розен, заклятые враги, к моему удивлению, очень мило разговаривали у моего письменного стола и объяснились в уважении и любви друг к другу. Г. Краевский и Бенедиктов сидели неподалеку от стола на диване в ту минуту, как появился А. Ф. Воейков. Я пользовался особенным расположением его за повесть мою, напечатанную в «Телескопе».
Воейков был среднего роста и сутуловат; голова его, несмотря на преклонные лета, покрыта была густыми вьющимися черными волосами с небольшою проседью, черты лица его были недурны и правильны, но черные масляные глаза его, резко и злобно сверкавшие исподлобья, придавали лицу его что-то неприятное, особенно когда он старался смягчить их выражение. Он прихрамывал и потому всегда ходил с палкой. Обыкновенный костюм его был темносерый сюртук с голубой ленточкой в петличке от медали 12 года. Говорил он немного в нос.
Воейков остановился посреди кабинета, обозрел его кругом исподлобья и произнес, обращаясь ко мне:
– Глазам своим не верю… Какая роскошь! С каким вкусом все убрано!.. Неужели это ваша квартира? А я думал, судя по отзывам об вас Булгарина (Воейков намекал на разные выходки против меня в «Пчеле»), что вы живете в какой-нибудь лачужке… Прекрасно! прекрасно! – повторял он, озираясь и крепко сжимая мне обе руки…
Потом, когда я отошел от него, он бросил взгляд исподлобья на присутствовавших и стуча своей палкой направился прямо к дивану, на котором сидели г. Краевский с Бенедиктовым.
– Андрей Александрыч! Владимир Григорьич! – воскликнул он, переходя взглядом от одного на другого. – Боже мой! как я рад вас видеть!. С каким удовольствием, Андрей Александрыч, я прочел ваш прекрасный, доказательный, умный разбор превосходных стихотворений Владимира Григорьича… Дельно, дельно! умно, умно!.. Это уж не то, Владимир Григорьич (он пожал руку Бенедиктова и искоса взглянул на Полевого), что другие дураки об вас пишут… Вы не смотрите на них, это завистники (и он махал рукой в сторону Полевого). Вы великой поэт, великой!..
Я так и обмер. Полевой все видел и слышал. Я заметил, что даже лицо его, при словах Воейкова, передернулось. Я боялся, что дело дойдет до объяснений и неприятностей, однако через десять минут Воейков обнимал Полевого, называл его почтеннейшим Николаем Алексеичем и чуть не объяснялся ему в любви, а Николай Алексеич ежился, ухмылялся и корчил приятные гримасы.
Тогда, по неопытности моей, я удивлялся этому. Такое лицемерие казалось мне в людях избранных необъяснимым. Теперь я уже ничему не удивляюсь.
Кукольник явился позже всех, и в дурном расположении. Он составил тотчас же свой небольшой кружок, подцепил Якубовича, Гребенку и еще двух или трех человек и начал им, по своему обыкновению, проповедывать что-то.
Гребенка слушал Кукольника с внимательностию, моргая глазами и покачивая головой…
Когда речь выходила сколько-нибудь из обыкновенной житейской колеи и принимала чуть-чуть отвлеченный характер, хотя бы дело шло об искусстве, Гребенка совсем терялся и только моргал глазами и покачивал головою. Но к людям, трактовавшим об отвлеченных предметах, он питал глубочайшее уважение, особенно к критикам, – боялся их, ухаживал за ними и угощал их на своих вечерах наливочками и малороссийским салом с необыкновенным добродушием. Таковы были впоследствии отношения его к Белинскому, которого он уважал от страха.
Якубович был не таков.
Отвлеченные разговоры не пугали его. Когда кто-нибудь при нем пускался в такого рода разговоры, он улыбался и шептал кому-нибудь из своих приятелей: «Ну, понес ерунду!»
– Терпеть не могу, – несколько раз говаривал он мне, – когда человек занесется в какие – то превыспренние сферы и начнет молоть. Все это пустяки; пусть там кричат, что он умен, образован… а дайте ему написать какое-нибудь стихотворение, попробуйте – и плохонького не сумеет написать, ей богу! – а мы хоть и не пускаемся в эти превыспренности, а стихи пишем, кажется, недурно. Сам Пушкин их хвалит и просит у меня.