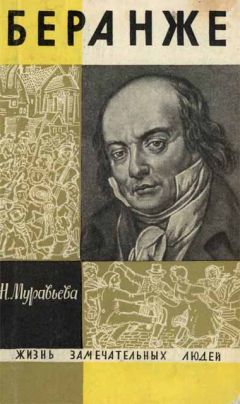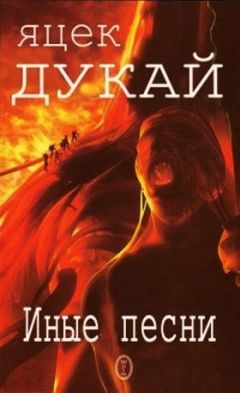Так было и в один из январских дней 1810 года.
Стук в дверь и раздраженный женский голос, донесшийся с лестницы, заставили Беранже вскочить. Он распахнул дверь и увидел какую-то незнакомую крестьянку, а рядом с ней мальчика лет семи-восьми.
— Это вы будете мосье Беранже?
— Да, что вам угодно?
— Ох, наконец-то я вас разыскала! Примите своего сынка. Я его кормилица, привезла мальчишку из деревни, а мамаша его, госпожа Парон, отказались принять сынка к себе, говорят: «Веди к отцу». Дали адрес, я и привела…
Можно себе представить, как был ошеломлен Беранже.
А мальчишка глядел исподлобья и переминался с ноги на ногу — вероятно, замерз. Может быть, Пьер Жан вспомнил в эту минуту, как он сам, брошенный родителями, стоял когда-то перед взором незнакомой тетушки Тюрбо?
Отпустив кормилицу, Беранже взял мальчика за руку и повел в комнату.
Зимние сумерки. Холодно, неуютно в одинокой каморке холостяка. Где будет спать малыш? Чем его кормить? Кто позаботится о нем, когда отец уйдет завтра на службу?
Выручила Жюдит. Она согласилась взять мальчика к себе и заменить ему мать.
Беранже дал сыну новое имя — Люсьен (в честь Люсьена Бонапарта) и принялся вместе с Жюдит за его воспитание. Это оказалось делом нелегким. Ленивый, туповатый, упрямый, Люсьен не отличался ни сообразительностью, ни послушанием и, увы, мало радовал отца и приемную мать. Но Беранже и его подруга не теряли надежды, что старания их еще принесут свои плоды.
* * *
Торопит время нас собою,
Морщины сея на челе…
И. — как ни молоды душою,
Мы старики уж на земле!
Жюдит невольно вздыхает, подперев голову рукой, и гости, сидящие за столом, старые друзья Антье и Вильгем с женами, затихли и как будто пригорюнились. А в уголках губ Беранже уже скользит улыбка. Нет, он не собирается лить слезы о невозвратном.
Но — новых роз ценить цветенье,
Хоть не для нас их пышный цвет,
И видеть в жизни наслажденье,
Друзья, — не старость это, нет!
Еще не старость. Но тридцать лет жизни уже миновало. За тридцать первым идет тридцать второй, тридцать третий… А во внешнем течении жизни Беранже никаких перемен.
Все гак же каждое утро ровно в 9 часов 15 минут появляется он в университетской канцелярии и скрипит там пером; все так же мучается головными болями, простудами, насморками и все так же не вылезает из долгов.
То и дело приходится просиживать ночи за спешным изготовлением текстов для какой-нибудь оперетты или водевиля, но заработки эти нерегулярны, и снова и снова Пьер Жан прибегает к помощи добросердечного Кенекура.
Что поделаешь! Надо заплатить за лекарство для бабушки Шампи, купить новые ботинки Люсьену, хоть изредка сводить в театр Жюдит… И, право же, трудно отказать себе в чашке крепкого кофе после обеда, чтоб разогнать усталость и посидеть за шлифовкой очередной поэмы.
Пусть занятия поэзией не приносят ему ни денег, ни славы (он знаменит только в Перонне!), но именно в этих занятиях он видит внутренний смысл своей жизни.
«Если б не поэзия, которая меня утешает, я не был бы счастлив», — признается он в одном из писем Кенекуру. И далее: «Если самолюбие не ослепляет меня, то, кажется, я начинаю понемногу понимать, что такое настоящая поэзия, но сколько еще надо учиться!»
Кропотливо, придирчиво, тщательно чеканит он каждую строчку в своих поэмах. Арно удивляется: почему Пьер Жан не издаст их наконец? Но Пьер Жан стремится к совершенству, которого все никак не может достигнуть.
«Я научился терпеливо высиживать свою мысль, ждать, пока она проклюнет свою скорлупу, и старался схватить ее там, где это выгоднее всего. Я пришел к убеждению, что любому сюжету должен соответствовать свой грамматический строй, свой словарь и даже своя манера стихосложения», — напишет он, оглядываясь на эти годы.
Мысль, содержание прежде всего — это первый принцип Беранже. Содержание определяет и повороты сюжета, и манеру стихосложения, и выбор слов. Но для того, чтобы совершилось чудо художественного творчества, чтоб мысль обрела жизнь в поэтическом произведении, надо ее «поймать там, где это выгоднее всего».
Открытия, сделанные в поисках своего метода, Беранже начинает применять не только в поэмах и пасторалях, но и в песнях. И оказывается, что в этом «низком» жанре они дают под его пером больший эффект, чем в высоких!
А почему, собственно, теоретики причислили песню к низким жанрам? Ведь она может нести в себе и мудрость басни, и нежность пасторали, и жало сатиры! Такие мысли все чаще приходят в голову Беранже. Два пути, по которым он движется, начинают постепенно сближаться.
Рой песен его растет, хотя автор все еще не записывает их; только иногда некоторым песенкам повезет. Так случилось, например, с песней «Старость», которую он переписал и отправил в письме Кенекуру.
Лучшие его песни подхвачены друзьями и уже гуляют в списках по стране, но имя автора их известно немногим. Музыку для них он не пишет; подбирает подходящий популярный мотив (иногда это мотив старинной песенки или какой-нибудь ариетты из всем известной комической оперы или эстрадных куплетов), «сажает на него верхом» свою песенку и пускает гулять по свету. Лишь некоторые песни, приближающиеся к романсам, положены на музыку Вильгемом.
Жизнерадостный юмор Беранже все чаще перемежается сатирическими нотками. Но к прямой политической сатире поэт предпочитает не обращаться, а если и обращается, то припрятывает жало ее поглубже. Он выбирает невинные, на его взгляд, морально-бытовые темы. Издевается в своих песенках над обжорами, пресыщенными гурманами, которые, кажется, вот-вот лопнут. Смеется над старыми сластолюбцами, соблазняющими молоденьких служанок; над людской пошлостью, скудоумием, низкопоклонством.
В университетской канцелярии ему постоянно приходится наблюдать, как трепещут перед начальством маленькие, робкие чиновники, как стремятся они продвинуться хоть на ступеньку по служебной лестнице.
В песенке «Сенатор»{В переводе Курочкина — «Знатный приятель».} Беранже и рассказал о таком безмозглом и раболепном человеке-червяке. Герой песенки, скромный чиновник, настолько ослеплен «милостивым отношением» к нему сенатора, что готов расстелиться под ноги знатному «приятелю», который наставляет ему рога.
Песенка «Сенатор» была объявлена антиправительственной сатирой — из-за ее названия, как полагал Беранже. Но дело заключалось не только в названии. Блюстители порядков при наполеоновском режиме чуяли, что за критикой нравов кроется и нечто более серьезное, да и сама критика нравов, если она идет от жизни и метит в цель, неизбежно соприкасается с критикой общественного строя.